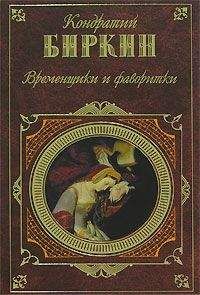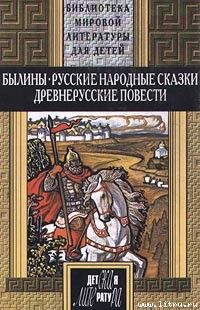Николай Михайловский - О «Бесах» Достоевского
Гризингер {5} в своем сочинении о душевных болезнях замечает: «Некоторые поэтические изображения умалишенных превосходны во многих чертах, взятых с натуры (Офелия, Лир, лучше всех Дон-Кихот), но так как поэт представлял эти состояния почти исключительно с духовной стороны, как результат предшествовавших столкновений, выставляя только то, что могло служить ему для этой цели, и совершенно обходя органическое их основание, то и описание его по крайней мере односторонне». И далее: «Поэтические и моралистические представления не только бесполезны и теоретически ошибочны, но и положительно вредны в практическом отношении. Они дали людям, не знающим дела, такие представления о душевных болезнях, которые не имеют даже и отдаленного сходства с действительностью, и, когда представления эти не соответствуют ей, у такого человека является сомнение, действительно ли это душевная болезнь. Как наивно удивляются многие посетители дома умалишенных, представлявшие себе его жителей совершенно иначе!» Таковы требования психиатра. Но, конечно, они слишком строги. Обыкновенный читатель не психиатр и очень редко эмпирический психолог, поэтому в Дон-Кихоте, например, для него имеют совершенно второстепенный интерес те именно черты, которые с психиатрической точки зрения, может быть, особенно дороги, например, галлюцинации ламанческого героя. Поэтому, называя выше талант г. Достоевского психиатрическим, я не то хотел сказать, чтобы им верно изображались уклонения разума и воли от нормального состояния. Об этом и судить не могу. Думаю, что, как и всякому наблюдателю, интересующемуся известным кругом явлений, г. Достоевскому случается и делать верные наблюдения, и впадать в фальшь. Но некомпетентность эта не мешает мне, как и всякому другому, судить о психиатрических субъектах г. Достоевского с эстетической и нравственной стороны. Дон-Кихот занимает меня, как художественное произведение и как нравственный тип, хотя бы я имел самые смутные понятия о процессах галлюцинаций и иллюзий. Литературная критика и голос толпы оценили Дон-Кихота задолго до психиатров.
Относительно г. Достоевского дело облегчается еще тем, что, несмотря на свою наклонность к изображению безумия, он редко рисует его только как процесс. В большинстве случаев он решает при помощи своих психиатрических субъектов какую-нибудь нравственную задачу и большею частью придает решению мистический характер. Он, если позволена будет некоторая восточность метафоры, разыгрывает на струнах душевной болезни нравственно-политические мотивы. В «Бесах», как и в «Преступлении и наказании», как и в «Идиоте», он устраивает целые оркестры такого рода. Он делает это двояко. Либо он берет какой-нибудь психологический мотив, например, чувство греха и жажду искупления (мотив, его особенно интересующий), и заставляет его действовать в образе. Вы видите, например, что человек согрешил, его мучает совесть, он налагает, наконец, на себя какую-нибудь эпитемью и тем достигает душевного спокойствия. Это один прием. Он был применен г. Достоевским в «Преступлении и наказании». В «Бесах» неудачную попытку этого рода представляет Ставрогин. Другой прием состоит в том, что измученному душевною болезнью человеку влагается в уста известное разрешение какого-нибудь нравственного вопроса. В «Бесах», к сожалению, преобладает второй прием. Говорю: к сожалению, потому что прием этот, очевидно, невыгоден в художественном отношении. Одно из действующих лиц последнего романа г. Достоевского говорит: «Не я съел свою идею, а моя идея меня съела». Это могли бы сказать о себе весьма многие герои г. Достоевского. И это тип, без сомнения, в высшей степени интересный и поучительный. Но одно дело показать его как тип, как живой образ, на глазах читателя действительно пожираемый своею идеею. И другое дело заставить человека без устали проповедовать пришитую к нему идею. А таковы большею частью герои «Бесов» (я разумею героев третьей категории, излюбленных героев г. Достоевского). Они пожираются своею идеею в совершенно другом смысле. Дело в том, что у г. Достоевского такой громадный запас эксцентрических идей, что он просто давит ими своих героев. В этом отношении его можно сравнить с Бальзаком. Приведем два-три примера.
В числе всякой губернской сволочи, увивающейся около губернаторши, m-me Лембке, есть некто Лямшин. Это мелкая гадина, трусливая, глупая, скверная. Лембке наконец выгоняет его от себя, но приятели убеждают ее прослушать «новую особенную штучку на фортепьяно», которую выдумал Лямшин. Штучка называется «Франко-прусская война». «Начиналась она грозными звуками Марсельезы:
Qu'un sang impur abreuve nos billons! [4]
Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко послышались гаденькие звуки Mein lieber Augustin [5] . Марсельеза не замечает их, Марсельеза на высшей точке упоения своим величием, но Augustin укрепляется, Augustin все нахальнее, и вот такты Augustin как-то неожиданно начинают совпадать с тактами Марсельезы. Та начинает как бы сердиться, она замечает наконец Augustin, она хочет сбросить ее, отогнать, как навязчивую, ничтожную муху, но Mein lieber Augustin уцепилась крепко: она весела и самоуверенна; она радостна и нахальна; и Марсельеза как-то вдруг ужасно глупеет: она уже не скрывает, что раздражена и обижена, это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками:
Pas im police de notre terrain, pas une pierre de nos fortresses [6] .
Но уже она принуждена петь с Mein lieber Augustin в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в Augustin, она склоняется, погасает. Изредка лишь, прорывом послышится опять: qu'un sang impur… Но тотчас же преобидно перескочит в гаденький вальс. Он смиряется совершенно: это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий все, все… Но тут уже свирепеет и Augustin: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; Augustin переходит в неистовый рев… Франко-прусская война оканчивается . Наши аплодируют. Юлия Михайловна улыбается и говорит: „Ну как его прогнать?“ Мир заключен. У мерзавца действительно был талантик». Не то что талантик, а идея мерзавца совершенно давит его, его не видишь в течение всего дуэта Марсельезы с Mein lieber Augustin, так что подчеркнутые слова встречаешь с некоторым изумлением: читатель совсем было и забыл Лямшина.
Другой пример. Петр Верховенский обнаруживает свою «идею» только в конце второй части романа.
И пока этого не случилось, вы можете следить за его фигурой, можете рассуждать, удовлетворительна ли она в литературном отношении (весьма неудовлетворительна), какова она, как нравственный тип и т. п. Но вдруг на Верховенского нападает восторженное состояние, оказывается, что он фанатик. Он развивает свою идею. Он восторженно доказывает Ставрогину, что необходимо одно или два поколения разрушения, пожаров, убийств, разврата «неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь». «Начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам». Тут по плану г. Верховенского надо пустить «Ивана Царевича», роль, предназначаемая им Ставрогину. «Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видал его, он скрывается. А знаете, что можно даже и показать, из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: „Видели, видели“. И Ивана Филипповича бога-саваофа видели, как он в колеснице вознесся пред людьми, „собственными“ глазами видели. А вы не Иван Филиппович; вы красавец, гордый как Бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, „скрывающийся“. Главное легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и „скрывается“. А тут мы два-три соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то – газет не надо! Если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: „Новый правый закон идет“, и заволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!»
Мы привели только часть практического плана Верховенского, и он еще на нескольких страницах развивает теоретическую сторону своей идеи. И во все это время читатель до такой степени поражен дикой оригинальностью, эксцентричностью идеи, что Верховенского тут как будто и не бывало. Точно вы читаете дикую книгу или слушаете дикую речь совершенно неизвестного и ни малейше вас не интересующего человека.
И замечательно, что исчезновение Верховенского, как образа, как характера, происходит как раз в ту минуту, когда он становится представителем третьей из принятых нами категорий, то есть когда он переходит в исключительную собственность г. Достоевского. Без сомнения, такое пожирание тучных коров поэзии тощими коровами фантазии людей, находящихся на границе ума и безумия, – в художественном отношении не может быть выгодно. Герои г. Достоевского, давимые идеями, по необходимости бледны, бледнее по крайней мере, чем они могли бы быть нарисованы рукою такого мастера. И в «Бесах» они особенно бледны, здесь нет ни одного образа, равного в художественном отношении фигурам Раскольникова, Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Недурен, пожалуй, Шигалев, но он, во-первых, стоит в самом заднем углу, а во-вторых, не развертывает своей идеи вполне, а только показывает один край её, так что не успевает быть ею придавленным. Вообще же вместо образов людей, придавленных своими идеями, в «Бесах» фигурируют образы, придавленные идеями, обязательно изобретенными для них автором.