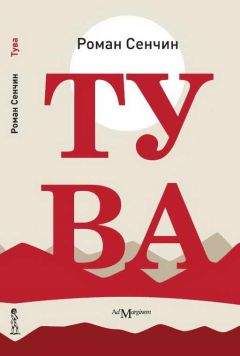Михаил Федотов - Я вернулся
Я первый раз в театре. Молодежный театр на Фонтанке. Идет "Стакан воды" Скриба. Моей жене, профессорской дочери Женьке, нужно написать для театрального журнала две статьи в актерский номер - про мужскую и женскую роль. И она в метро пытается рассказать мне о спектакле, но всю дорогу мы торгуемся из-за масштабов Шекспира и Чехова. Дался им этот Чехов. Я говорю ей, что если она считает, что Чехов равен Шекспиру, то она может со мной вместе больше не жить и снова считать себя невестой.
Нас с невестой проводят через служебный ход, но до начала еще четыре минуты, и я бочком отправляюсь в какой-то закулисный актерский туалет. Похоже на бомбоубежище, но довольно уютно. В туалете две закрытые двери, но в левой уже кто-то сидит, а в правой совершенно нет света, и я оставляю себе узкую щелку и застываю от ужаса. В левом туалете громко шепчутся двое мужчин. Один из них прикрикивает и на чем-то настаивает, а второй говорит: "Никогда не позволю, никогда не позволю, никогда не позволю!". Я знал, что я вполне могу обойтись без театров, чего-нибудь такого я от них и ожидал. Я вообще наслышался про ленинградские театры, но это уже слишком. Когда я наконец мою руки и поспешно сбегаю в коридор, левая дверь открывается и из нее вырывается довольно общипанный лысоватый мужчина в гриме. Краем глаза я замечаю, что больше в туалете никого нет. Видимо, это и есть Женькин герой, и я бегу рассказывать ей, как актеры настраиваются на роль. Это очень живая деталь для театрального журнала, но она отмахивается и не хочет меня слушать.
Я в театре из молодежи самый старый, есть еще несколько старых козлов похожего возраста, все с молодыми дамами. Я смотрю на них с брезгливым раздражением. И это называется Театром молодежи, интересно, что происходит в театре для пожилых?! Весь первый акт я уверен, что Женьке нужно писать о герцогине, и пытаюсь ею увлечься, но у меня не очень получается. У герцогини красивая грудь и плечи, но очень провинциальный выговор. К тому времени, когда выясняется, что писать нужно про королеву, герцогиня мне уже почти нравится, но я быстро отрабатываю задним ходом. Кстати о герцогине: если вам попадется индийский чай "Принцесса Гита", то ни за что не покупайте, хоть он и дешевый. Полдоллара за сто граммов. Это такой веник, что бывает только в Фонарных банях, а еще пишут "расфасовано в Индии".
Трехлетний Федя спрашивает, скоро ли мы вернемся в Иерусалим. Я отвечаю, что нужно дождаться снега. Поедем после снега.
Когда выпадет весь снег на земле, я хочу вернуться в Иерусалим.
РЕПОРТАЖ 2
Ах, когда я вернусь. Галич
Утро. Солнце слева, над Ижорским заводом. Каждый день оно заходит с новой стороны. Позвонил Лазарь Дранкер. Он в Москве. Живет в гостинице по двести пятьдесят долларов за ночь. Через пять дней должен быть у нас. Чего-то всех сюда потянуло. Саша Верник позвонил трагическим голосом и сказал, что он здесь, в этом городе, который он "нежно любит". Я ему говорю: "Пожалуйста, без патетики, увольте меня от этих соплей". Почему-то у некоторых людей катастрофически не хватает вкуса. Мы договорились встретиться на мосту у Дома книги. На этом месте в моей жизни было несколько серьезных свиданий, и я вспоминаю о них, пока Верник не выплывает из метро. За тридцать рублей предлагаются экскурсии по рекам и каналам, но мне не нужно никаких экскурсий, я уже все видел, я просто стою. Это были судьбоносные свидания, и через тридцать лет вспоминать о них не следует. Я рассматриваю двух длинноногих дылд, которые качаются на парапете. Посмотрим, будут ли вас так остро помнить через тридцать лет. Меня раздражает мысль, что мои любимые стали бабушками, скоро их будут пускать в трамвай без билета. Они даже удивятся, что кто-то может рассматривать их в виде сексуальных объектов. Верник прерывает эти мысли, и мы поднимаемся на второй этаж Дома книги. По дороге он что-то лопочет мне про дружбу и про то, что, расставаясь на годы, мы должны где-нибудь вместе пообедать. Я предлагаю ему скромно поесть в пельменной, а пока покупаю ему на вечную память пять томов Малахова про мочу. Второй этаж похож на книжный склад в Кремлевском распределителе. Все современные русские авторы выходят в таких толстых обложках, что из них можно делать офицерские сапоги. Я беру несколько наугад и наконец останавливаюсь на стихах Нины Искренко. Она единственная пишет против потока и в основном про мочу. Она умерла от рака. Перед смертью пила много мочи. Если бы Бродский написал хоть одно стихотворение про мочу, я бы стал к нему теплее относиться. У Малахова тоже два тома натуропатии про мочу, но все дико серьезно. Наконец мне надоедает эта тема, и я веду Верника в "Минутку". Когда-то там продавались гениальные пирожки с морковкой и с яйцом. А бульончик и кофе заливали из ведра. Играешь всю ночь в покер на улице Плеханова, 6, где как раз Бродского кормили голубями, а потом натрескаешься пирожков и снова идешь немного поиграть.
Но "Минутки" больше на свете нет. Вместо нее открыт Макдональдс. Чистенько так, что неподготовленного человека может вырвать. Но говорят не по-американски, а по-русски. Это нам не подходит. Мы идем дальше к Мойке и доходим до музея восковых фигур. Рядом во дворе есть пельменная, пельмени американскими быть не могут. Но Верник начинает жаловаться, что ему тут жарко. Это действительно пельменная трактирного типа, и зимой такая домашняя пельменная сойдет "на ура". В этой пельменной снималась центральная сцена "Крестного отца", когда Майкл стреляет в полицейского капитана. Называется она "Луна адзурра". Вот точно такой же бачок в туалете, за ним укрепляли двадцать второй калибр, но Вернику бачок не нравится. Он не просто сволочь, он резидент Сохнута на Украине. Я выдаю его, но осталось всего две недели его сионистских полномочий, и я уже не могу ему особенно навредить. Мы опять выходим на Невский, аппетит пропал. Навстречу идут два мильтона в черных беретиках, и один из них просит у Верника документы.
Я с удовольствием рассматриваю эту картину. Верник явно нервничает и долго ищет свои бумаги. Наконец он их находит. А виза? Я советую Вернику не писать кипятком, хлопаю его по спине и всячески подбадриваю. Перетрухал паренек. Но тут один из милиционеров просит показать документы и меня. Повторяется ситуация из "Трое из одной лодки", когда автор долго смеется над Джорджем, у которого в реку упала рубашка. Но потом выясняется, что это рубашка не Джорджа. Я вспоминаю, что мой русский паспорт в двадцать первом отделении милиции на Бестужевской, которое уже наверняка закрыто по поводу субботы. А с собой у меня есть израильский паспорт. Строго говоря, у меня их с собой даже два. Но вот к ним у меня нет никаких виз. Потому что в Ленинград я въезжал "как свой", виляя хвостом на таможне и помахивая российским паспортом. Квиток, что мой паспорт на оформлении, я с собой тоже взять забыл. Идет, сгущается пятница. Четыре часа. Паспортный стол не будет работать до понедельника. Выслушивая мои нервные объяснения, мильтоны похамливают и вызывают машину. Потом меня аккуратно обыскивают и говорят, что я арестован. И для разбирательства буду отправлен в милицию в переулке дедушки Крылова. Это очень известное отделение: туда раньше из туалетов Пассажа таскали баб-фарцовщиц. Верник стоит глубоко подавленный. Едрена матрена - сейчас бы сидели спокойно, жрали пельмени и заливали их уксусом. Начинается. Меня забрали два молодых сержанта. Один из них, поретивее, похожий на передачу "Четыре татарина", воспитывает меня на ходу, говоря, что нельзя так часто менять гражданство. Он совершенно прав. Это у меня генетический дефект. Мы идем по Невскому, но не в наручниках, и на нас с любопытством поглядывают прохожие. Здравствуй, родина! Верник трусит за нами и жалобно просит меня отпустить. Или хотя бы разрешить ему с нами поехать. "Четыре татарина" жестко ему отказывает. Верник понуро уходит в переулок дедушки Крылова. Подъезжает милицейский фургон, еще два молоденьких сержанта в беретиках. Может быть, это Омон! Я не хочу, чтобы мною занималась заурядная милиция. Сейчас меня затолкают в
воронок и будут топтать ногами. Я закатываю глаза к небу и, как Васисуалий Лоханкин, готовлюсь к неминуемым страданиям. Приехавшие сержанты осматривают мои документы и внимательно меня выслушивают. Потом они оборачиваются к ретивому сержанту "Четыре татарина" и очень брезгливо говорят ему: "Ты что, охуел? Чего ты к человеку пристал? Ясно же тебе русским языком объяснили!" Я свободен. Я снова стою возле Дома Книги и пою гимн вечернему солнцу. Я захожу за Верником в милицию, но настроение у нас уже испорчено. И мы начинаем мелко переругиваться. Только бы он не запел свои песни про антисемитизм. Ведь это из-за него меня в конце концов забрали. Его приняли за чеченского шейха. Кому нужны задрипанные иерусалимские поэты, у которых нечего взять кроме четырех килограммов желчных камней, омрачающих его поэзию. Мы на всякий случай, чтобы избежать слежки, заходим по объявлению в маленький музей рептилий на Литейном. В маленькой однокомнатной квартире по стеклянным шкафам рассажены крокодилы. Если бы я был крокодилом, я был бы этим очень недоволен. С другой стороны, если крокодил вылупился здесь из яйца, то он, вероятно, думает, что это и есть жизнь. Что весь мир - это только стеклянный аквариум на Литейном. Бедняги. Я сидел в таком аквариуме больше пятнадцати лет. Главное, что когда ты в конце концов из аквариума сбегаешь, то выясняется, что за корм ты должен им столько, что тебе еще до смерти не расплатиться. Анаконда с грохотом плюхается в воду, и мы с Верником, не попрощавшись, расходимся в разные стороны.