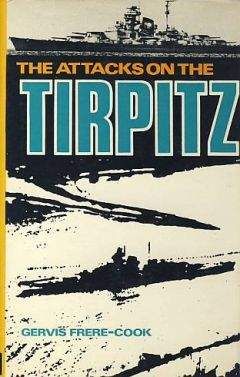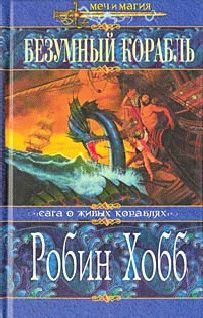Михаил Чельцов - Воспоминание смертника о пережитом
Припоминаю, что путешествие это - последнее - в суд прошло почти совершенно в молчаливом настроении. Мы как будто прощались не только с проходящими по улицам нашего пути, а в лице их и со всеми свободными и живыми, но и самими улицами и зданиями, садами и т. п., ставшими для нас милыми и дорогими. Народу на улицах нашего проезда, особенно вблизи суда и у дверей его, виднелось сравнительно мало. Заметно было, что он или напуганный чем-то, сам боялся быть на нашем пути, или его как-то невидимо отгоняли и не допускали. Не виднелась у суда - вблизи его и у дверей - особенно усиленная стража, как будто было все так же, как и в прежние дни суда, - даже как будто тише, и в этой тишине - напряженнее и мрачно-грознее...
Около 3-х часов дня приехали мы в суд вместе с товарищами из 1-го исправдома. Прежде, в дни суда, вновь приезжавшие оживляли нашу "комнату обвиняемых", где мы собирались до вывода нас в зал суда и где проводили время в антрактах суда. Теперь печать чего-то ожидаемого тяжелого, грозного как бы лежала на самих стенах и жалкой обстановке комнаты. Тень смерти, где-то притаившейся, для глаз невидимая, но сердцем чувствуемая, властно царила над сознанием всех. Разговоры не клеились; щебетали лишь наши дамы, хорошо уверенные, что их или совершенно оправдают или дадут маленькую тюрьму (кажется, их всех под разными видами отпустили домой); даже обычно беспечная, смеющаяся часть хулиганствующих подсудимых, и эта сократилась и как-то незаметно себя держала. Не весел был и мой Павлик (сын). Мне чудилось, что и за свою свободу он не был уверен, но обо мне думал лишь мрачное. Правда, он старался утешить меня, а, пожалуй, больше себя, словами: "Нет, папа, тебя не осудят, ... вот посмотри, мы оба с тобой вместе пойдем домой" - но сердце ему другое говорило...
Скоро откуда-то стали выползать слухи, что доподлинно-де известно, что расстрелов не будет и митрополит Вениамин будет сослан лишь в Соловки. Другие передавали, что к расстрелу приговорят то 10, то 6 человек. Всякий раз, как слышал я какую-нибудь новую весть, начинал высчитывать-гадать, подойду ли я к той или иной цифре. И обычно выходило, что если 10, то и я непременно. Больно, тяжело становилось на душе, поэтому всячески старался уверить себя, что не 10, а меньше могут к расстрелу присудить. Но не верилось в достоверность ни одного сообщения, было сильное желание убедить себя, что все эти сведения - только сочинительство. А тем не менее очень сильно хотелось слышать все новые и новые сообщения, искать в них приятное для себя успокоение. Но с каждым сообщением делалось все хуже и хуже на душе. Невольно хотелось не столько от разговоров с другими, но от фигур их, от спокойного вида других, от их физиономий получить надежду на доброе для себя: если другие спокойны, значит, они знают что-то хорошее, значит, и тебе нечего беспокоиться.
Я старался внимательно всматриваться в настроение, в лицо митрополита Вениамина. Ему-то, думалось мне, больше всех других должен быть известен исход нашего процесса, ему приговор суда должен быть более грозным и тяжелым, а поэтому в его лице и в его настроении правильнее всего читать приговор и мне для себя. Но как я ни старался распознать что-либо в Вениамине, мне это не удавалось. Он оставался как будто прежним, каким-то окаменевшим в своем равнодушии ко всему и до бесчувственности спокойным. Мне только чудилось, что в этот день он был еще более спокоен и задумчиво-молчалив. Прежде он больше сидел и говорил с окружающими его; теперь он больше ходил.
Открытие суда для выслушивания приговора было назначено на 6 часов. Но около 4-5 часов стало известно, что открытие отложено до 9 часов вечера. Это опять стало растолковываться по-разному. Хотелось всем видеть в этом утешительное: если отложили, то, значит, идут больше суждения; значит, не все заранее предрешено; значит, можно надеяться на что-то доброе. Но какое-то двойственное волнение возбуждалось этим отложением. Томительное ожидание неизвестного, но, по всей вероятности, нерадостного угнетало и возбуждало одно желание: эх, как бы поскорее все это кончилось, хотя бы и тяжелым, но ясным и определенным; но против этого желания скорейшего конца восставало другое желание: как можно дольше не знать этого конца, лучше томиться в неведении ужасного.
Часов около 8 вечера вдруг неожиданно стали нас вызывать в зал судебного заседания, - но оказалось - к фотографу снимать нас. Вызвали сначала двух архиереев, а потом нас, судившихся по 62-ой статье. Пока нас рассаживали, мы опять стали толковать это наше выделение, да еще для фотографии, в дурной знак для себя. Но скоро стали вызывать и рассаживать не только остальных священников, но и мирян, и почти всех...
Около 9-ти часов вечера раздался первый звонок - предвестник скорого открытия страшных минут. Невольно екнуло сердце, рука поднялась к крестному знамению и в глазах, голове потемнело. Но сознание работало туго... прозвенел второй звонок, и мы потянулись в последний раз на свои места скамьи подсудимых. Кто-то сказал, что нужно выходить в порядке: сначала митрополит, за ним Венедикт, потом "смертники" и остальные... Откуда был этот приказ, я доселе не знаю. Но тогда он произвел сильное и тяжелое впечатление.
Я выходил, занимал свое место, хорошо это я сейчас (т. е. ноябрь 1922 год) припоминаю, с жутким сознанием или вернее сказать - почти бессознательно, машинально, не отдавая себе отчета в том, что происходит и что страшное имеет произойти. В эти минуты мне не хотелось смотреть на посторонних, мимо коих приходилось проходить. Но со своего места на публику сидящую я внимательно смотрел, стараясь разглядеть, нет ли кого знакомого и кем вообще наполнен зал. Хорошо припоминаю, что особенный интерес возбуждали во мне сидящие студенты Зиновьевского Университета...
На душе было мрачно, темно, но острой боли, яркой тоски не было. Только бы скорее, скорее...
В начале десяти часов вечера раздалось наскучившее за месяц "Суд идет"". Глаза всех устремились на входящих судей. Хотелось еще раньше на их лицах прочитать приговор себе. Но лица их по обычаю холодны и грозны. Приглашения сесть не последовало. Все стояли. Начинается чтение приговора. При первых же словах "Именем РСФСР" стоящая в большом количестве стража проделывает шпагами какие-то приветственные жесты в адрес Республики. Внимание невольно отвлекается к стуку этих шпаг. Первые же слова из приговора приковывают все внимание. Слышится учащенное биение сердца, какая-то дрожь пронизывает все тело, сковывается сознание, оно потемняется; всякое чувство исчезает. Скоро ли, скоро ли моя фамилия? Произносят ее, - но приговора еще нет. Слушаю, но плохо понимаю. Но вот и самый приговор; вот и моя фамилия и после нее непосредственном громким и повышенным голосом Якобченко [10]] (председатель Трибунала) возглашает: "расстрелять, а имущество конфисковать!"... Чувствую, что взоры всех обращены на нас, между прочим, и на меня... Павлуша любовно-скорбно на секунду оборачивается назад - ко мне, жмет мне успокоительно руку как бы для поддержки и для осведомления, как я чувствую себя. На меня эти грозные слова о расстреле не произвели ошеломляющего действия; что-то темное наволоклось мне на глаза; в сознании была только одна мысль, что домой не пойду и что-то будет сейчас, сегодня, через час-другой с моей семьей. Но почему-то я не мог долго сосредотачиваться вниманием на самом себе; как будто ничего особенного я о себе не услышал; как будто я это уже знал или во всяком случае предвидел. Помню, я посмотрел на митрополита, и мне понравилось великое спокойствие на лице у него, и мне стало хорошо за него, за себя и за всю Церковь. Я стал интересоваться судьбой своих сотоварищей по суду и особенно, конечно, Павлуши. Внимание мое стало вдруг острым и напряженным настолько, что я с того момента запомнил об очень многих, к каким наказаниям они приговорены и доселе это помню. О себе совсем позабыл. Особенно я радостно почувствовал себя, когда услышал, что Павлик освобожден. Ну, думаю, дома будет кому утешить маму; он сумеет ей сообщить эту убийственную весть...; и на душе стало легче и спокойней. Я даже приободрился и даже, помню, повеселел.
Закончилось чтение приговора. Всем оправданным возвестили, что они свободны. Уходя от меня в полном убеждении, что мы на этом свете больше не увидимся, Павлуша обернулся ко мне, и мы с ним наскоро, не сказав ни слова друг другу, поцеловались. Увидимся ли? - думалось. Но я как-то уверенно подумал: "увидимся" и добавил: "если не здесь, то в будущей жизни".
Не могу промолчать - не отметить: как только закончилось чтение приговора, раздались многочисленные, дружные, громкие рукоплескания, - как оказалось - студентов Зиновьевского Университета. Ох, тяжело от них почувствовалось, досадно на них... Еще подробность: в конце чтения раздались два-три истеричных вскрикивания. Я очень порадовался, что из моих родных здесь никого не было...
В зале остались одни мы - осужденные. Как-то не хотелось смотреть друг на друга; на душе было пусто и темно, безотрадно и ко всему равнодушие. Помню, мой сосед по скамье - о. Павел Виноградов, настоятель от Вознесения, обратился ко мне с вопросом, - к чему я присужден. Я ответил ему с улыбкой. Он даже меня не утешал, сказал только: "Неужели?".. Судьи наши, закончив чтение, тоже, по-видимому, чувствовали себя не особенно хорошо и так быстро побежали из зала суда к себе в комнату, что не захотели выслушать наших защитников, которые, сорвавшись со своих мест, закричал им вслед: "мы кассацию подаем..., мы заявляем..., мы просим принять от нас заявление, что мы подаем кассацию"... Но судьи наши, как бы чего-то страшного убоявшиеся, не слушая никого и ничего, бежали и убежали, не принимая никаких заявлений от наших защитников.

![Майкл Муркок - Скиталец по морям судьбы / The Sailor on the Seas of Fate [= Моря судьбы]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)