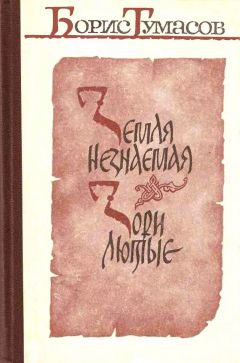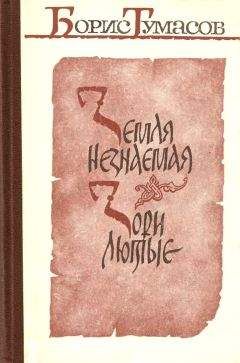Георгий Гребенщиков - Былина о Микуле Буяновиче
Но он старается не думать о полатях, а думает о зеленом сундуке, обитом жестяными белыми полосками в клеточку. В сундуке сложены все Дунины наряды, бабушкина смертная рубаха и парадный отцовский кафтан, уже зеленый от старости: в нем женился дедушка Микулкин. В сундуке же лежит недошитая Микулкина рубашка. Розовая, с цветочками, и пахнет так, как должен пахнуть город, в котором куплен этот ситец. Бабушка ходила на богомолье и купила. Себе купила белой миткали на смертную рубаху, Дуне — башмаки со скрипом, отцу Микулкиному — тику на штаны, Микулке на рубашку. Истратила четыре рубля двадцать и сердилась, что истратила все деньги. Теперь опять копит и зашивает за пазуху. Если пойдет на богомолье — наверное, купит Микулке сапоги и картуз к Троице, к цветам в полях, когда так весело поблескивает солнышко на лаковых картузных козырьках.
Что еще Микулка знает примечательного в избе?
А-а! Это самое примечательное и веселое — это клетчатое покрывало, которым Дуня закрывает по утрам постель на кровати. Составлено оно из разноцветных лоскутков, по которым баба Устинья, изредка, когда она не сердится, и когда к ним кто-нибудь приходит посторонний, рассказывает всю историю своей жизни и жизни дочери, матери Микулкиной, которой он не помнит. Покрывало это шила ее дочь незадолго перед смертью, для Дуняши, на приданное, хотя Дуняше тогда было всего одиннадцать годков. Лоскутки же для покрывала бабушка стала собирать еще со своей свадьбы, когда шила себе кашемировый подвенечный сарафан и когда отец и мать справляли ей богатое приданное. Приданное дочери она справляла уже не такое, как справляли ей, но все-таки и от дочериной свадьбы осталось много лоскутков разных ситцевых и кашемировых и самобраных. И теперь бабушка, как глянет на покрывало — либо засмеется, либо заплачет. Вот из такого золотистого цвета с полосками — у нее был сарафан, когда она была в тягости Феденькой. А вот, из такого синенького с горошком — у Феденьки была рубашка, когда он был по пятому годочку. А вот в этаком, в красном в полосочку — она положила его в гроб, когда ему было уже двенадцать лет. Из рассказов бабушки Микулка знал также, в каком платье венчалась его мать, какое ей привез Петрован из города, где он тогда продал двух живых лисинят. Тогда как раз и родился Микулка. В этом платье она лежит теперь в могилке. Все это навсегда зашито в покрывало, и оно единственное во всей избе, на чем Микулка чаще всего останавливает свой взгляд и о чем чаще всего думает. Знает также, что под покрывалом на кровати скрыт ровно уложенный Дуней разный негожий и постельный хлам. Там внизу лежит перина, еще бабушкино приданное, из которой осенью, когда Дуняша стала ее чинить, вывалилась куча пожелтевшего пера, а вместе с ним целое мышиное гнездо, и Микулка с тех пор узнал, что маленькие мышата совсем голые и розовые, как его пальцы, когда они зазябнут на морозе.
Сидит Микулка, слушает тишину избы и пугливо настораживается с широко раскрытыми глазами, как в избу, средь бела дня, с ослепительно белой улицы врывается собачий лай и злой человеческий выкрик. Там ходят по снегу люди, обутые и одетые в шубы и шапки. Это очень счастливые люди — они могут ходить по снегу, глядеть на лошадей или ягнят, могут даже куда-нибудь уехать из деревни, например, за сеном или за дровами.
На этот раз Микулка слез с печки, обшарил шкафчик, нашел старый сухарик и, севши у окна, стал грызть его, полизывая языком ледок на стекле, потому что ледок был похож на сахар. Скоблил его пальцем, заглядывал на улицу и, чтобы как-нибудь нарушить влившуюся снаружи снежно-солнечную тишину и скуку, начал ныть:
— Ушли да ушли все! Бросили одного, как есть… Сиди тут до самой до ночи… Гы-ы-ы!..
И вот в это-то самое время кто-то сказал на улице:
— Входите, барин! Не бойтесь… ничего. Входите. Собак у Петрована нету! Не то это поблазнило?
Микулка обернулся к двери, за которой услышал скрипучие тяжелые шаги, и, точно вспугнутый заяц, быстро вспрыгнул на печку. Осторожно продолжая грызть сухарь, все свое зрение и слух устремил к двери и стал ждать.
Дверь, примерзшая в притворе, с треском отскочила, и в облаке мороза в ней показался мохнатый, незнакомый человек. Микулка, с не дожеванным кусочком сухаря во рту, упал животом на горячую печь и затих, стараясь не дышать.
Появившийся в избе, одетый в доху, мягкие оленьи сапоги и меховую шапку с длинными ушами, стоял у порога и, не снимая шапки, замер, прислушиваясь к колдующей пустоте избы и не зная, что делать: уходить или ждать чьего-либо возвращения.
В западное окошко слабо процеживался отблеск угасающего дня. Проезжий огляделся, ощипал с усов и бороды сосульки инея и фыркнул, как конь переводящий дух на остановке после бега, и после долгой паузы сказал:
— Вот она и самая убогая избенка. Да-а…
Он прошел в передний угол, посмотрел картинки с песнею об Ухаре-купце, с притчей о богатом, обложку от Князя Серебряного.
— Скажи на милость — кто-то у них еще грамотный.
И услыхал из-за широкой печной обочины прыгающий крик:
— Ой, брюшенько сожгло-о!..
Приезжий шагнул к печке и увидел перепуганные глаза Микулки.
— Эх! Да тут… Ты что же, брат, запал в засаду, а?
Микулка бросился от него в угол.
— Ой, дяденька, родименький… Ой, ой! Не ешь меня!..
Приезжий отступил и спросил:
— Да что ты? Что ты, дурачок!
— Да ишь ты букушка!.. Мохнатый!
— Да это на мне только шуба волчья, а сам я человек… Ну, погляди!
Всхлипывая и одолевая страх, Микулка придвинулся к краю печки и признался:
— Я эких-то еще не видывал. Ты как чертяка! Как голова-то шерстяная на полатях…
— Что? Шерсть? Эх, брат, — такой большой, а трус. Как не стыдно?
Приезжий рассмеялся и Микулка позабыл о страхе.
— А на руке-то у те што блестеет?
— Колечко.
— А ты из баринов? За Дуню пришел свататься?
— Это кто же Дуня?
— А наша Дуня. Бабушка ей все кричит: вот барин явится — посватает.
— Ну, допустим.
— А она сказала, што не надо ей ни принца ни купца, ни барина, а пойдет в монашки.
Микулка швыркал носом, ободрился и даже повеселел.
— Она даже за Илью за Лукичева не идет. А они богатые: у них ижно семь лошадей, да коров, сказывают, девять. Они каждый день лепешки жаренные едят. И говядину. Даже в окошко, в дырку дух слыхать… А у ребятишек, у всех, тулупчики овечьи есть и обутки.
— А у тебя, значит, нет ничего?
Но Микулка перебил Проезжего с той веселой верой в свои слова, которую так радостно кому-нибудь поведать:
— Тятенька зайцев сулился настрелять мне-ка на шубу. А обутки бабушка их войлока сулилась сделать. А эта шерсть на прялке — не наша, а чужая. А тятеньке зайцев настрелять нипочем… Он в прошлогоде даже двух волков убил матерых!
— А где же он твой тятенько-то?
— А он у Спиридоновны, у Лукичихи робит. Снопы с пашни возит, чтобы молотить на льду.
— Ну-ну… Как же тебя звать?
— А Микулкой. А когда вырасту большой — будут Микулой звать.
И вспомнилась Проезжему былина о Микуле Селяниновиче. Может быть, также богатырь Микула сидел сиднем глупым на печи, как тесто поднимался, рос, пока не вылез из квашни через край. С задумчивой улыбкой смотрел Приезжий на Микулку и ровным голосом говорил, как сам с собою:
— Так, так! Расти Микула богатырь! А когда вырастешь, сам ржи напашешь, да в скирды складешь, да домой выволочешь, да дома вымолотишь. Пива наваришь да мужиков напоишь. Тогда станут тебя мужики покликивати:
— Уж ты гой еси, добрый молодец Микула… Как отца-то звать?
— Петрован Васильевич.
— Уж ты гой еси Микула Петрованович… Слыхал сказку эту?
— Слыхал. Бабушка Устинья мне-ка сказывала.
Глаза у Микулки слегка покосились. Один устремился в то далекое, что в сказке грезилось, а другой думал об этом человеке в мохнатой шубе, тоже как из сказки, только из другой, из книжки, с которой первую страничку с картинкой на стену Дуня приклеила.
— Там про Сивую Кобылу зачинается, — промямлил, наконец, Микулка и прибавил, — И еще про Князя Серебряного Дуняшка читала…
— Ну, скажи, пожалуйста! — улыбаясь, протянул Приезжий, — И про Сивую Кобылу и про Князя Серебряного. Да ты все на свете знаешь!
Он взял пальцами за щеку мальчика, и они оба громко рассмеялись. А за смехом Проезжий не услышал, как отворилась дверь и в избу вошла, мягко ступая валенками, Спиридоновна. Она прошла на середину избы, перекрестилась на икону и пропела, оборачиваясь к гостю:
— Здорово ты живешь, ваше благородие!
Приезжий даже вздрогнул и сконфузился.
— А я тут с твоим сынком разговорился, начал он неловко.
— Оборони меня Господь от эдаких сынков! — обидчиво сказала баба, — Я соседка ихняя. Работают они у нас всегда — вот я и захаживаю.
А сама Проезжего так и пронзала насквозь колючим взглядом.