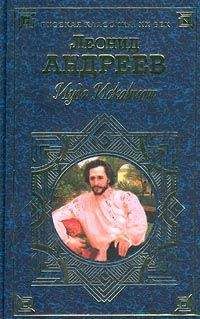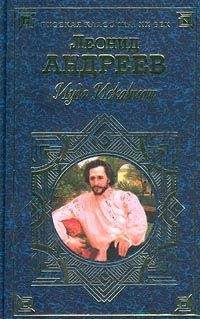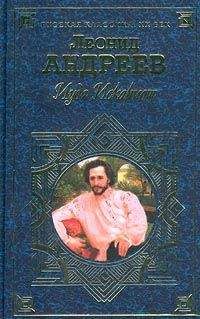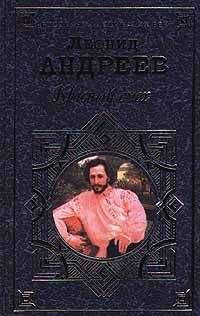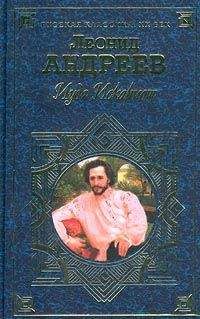Леонид Андреев - Иван Иванович
— Не знаешь? — презрительно сказал тот. — Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.
— Да у меня и пилы нет.
— Поищи.
И опять его гоняли от одного к другому, но наконец нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.
— А ты бы шинель-то снял, — посоветовал рабочий. — Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.
— Боюсь, украдут, — сказал околоточный.
— Ну вот! — удивился старик. — Кому оно нужно. Тут, брат, граждане, а не воры…
— Рассказывай! — не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком изнанкой наверх и осторожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось на виду.
Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятнее. Попригляделся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким он привык и умел обращаться: рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.
— Смотри-ка, — сказал Иван Иванович, — и бабы тут. Тоже работают.
— А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.
— Выдрать бы их за эту лепту, вот что.
— Ну, и гадюка же ты! — удивился рабочий. — Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.
— Граждане, а деретесь, — упавшим голосом возразил околоточный.
— Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?
И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пятидесяти у лавки стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович осклабился и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забегал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выраставшую баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.
— Ага! — сказал околоточный.
— Ты что?
— Ничего, так. Рано вы в граждане записались.
— Ты опять?
Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребрами своими она расползлась в стороны как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех:
— Попробуй-ка, перескочи!
Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работавших, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. «Привязался», — подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:
— Даже и смотреть нельзя, скажите пожалуйста, какие цацы!
— Глаз-то у тебя нехороший, — серьезно заметил старик. — Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде заместо красного знамени. И дешево и сердито!
— Что же тут хорошего!
Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иваныч совсем успокоился и за себя и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:
— Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О Господи, вот же народ бестолковый!
Теперь он понимал, что такое баррикада.
— Упри его концом сюда, так, — чтобы остряком оно вперед. Так, верно!
И уже развязно подходил к Петрову.
— Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.
Петров, не оборачиваясь, коротко ответил:
— Убирайся вон.
— Как же это так? — пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то из-под низу, как побитая собака. А потом снова овладевал положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.
— А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались, — сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду. — Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.
Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.
— Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!
И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.
— Я не виноват! Она… Я не виноват, честное, благородное слово! Я ей сказал…
Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал, — плюнул.
— Гуманность! — сказал он презрительно.
— Господин Петров! Господин Петров! — звал его околоточный. — Я ей сказал…
— Молчать!
И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:
— Ну его к Богу.
Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.
— Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят, — всех доставляйте сюда. Хорошо!
— Что хорошо? — спросил Петров.
— Так. Все хорошо. Погода хорошая.
Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:
— А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.
Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что и впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.
— Послушайте, вы, — сказал он молодому, — как вы шашку нацепили? Разве так носят?
— А что? — спросил тот.
— А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.
— Сойдет и так, — засмеялся молодой. — Сие не есть важно.
«Сие, — подумал Иван Иванович. — Вот еще дурак: сие», — и с отвращением сплюнул.
— Куда вы меня ведете-то? — грубо спросил он. Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:
— Молчать!
И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.
— Надо свернуть, — сказал один.
— Ничего, пройдем, — ответил молодой.
— Лучше свернуть, — поддержал другой и вынул револьвер. — А у вас есть револьвер, товарищ?
— Нет, — беззаботно ответил Василий.
Оказалось, что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злорадно улыбнулся. «Так, так», — подумал он.
Свернули в коротенький, безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все изменилось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его товарищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.
Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо вскрикивал что-то непонятное и все порывался ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова:
— Этот самый! Этот самый!
Он бесконечно повторял: «этот самый!», — вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду… Толстый офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника.