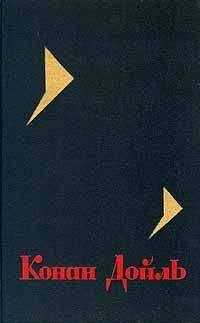Надежда Дурова - Кавалерист-девица
Мне минуло десять лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницею Астахова, что это гусарское воспитание пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее и что она желала бы лучше видеть меня мертвою, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня, и что с летами я получу другие наклонности, и все пройдет само собою. «Не приписывай этому ребячеству такой важности, друг мой!» — говорил батюшка. Судьбе угодно было, чтоб мать моя не поверила и не последовала доброму совету мужа своего… Она продолжала держать меня взаперти и не дозволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась; но угнетение дало зрелость уму моему. Я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и, как взрослая, начала обдумывать план успеть в этом. Я решилась употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действо замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая украсться от надзора матушки; эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье; я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда уже ожидало меня наказание. Таким образом минуло два года, и мне было уже двенадцать лет; в это время батюшка купил для себя верховую лошадь — черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его Алкидом. Теперь все мои планы, намерения и желания сосредоточились на этом коне; я решилась употребить все, чтоб приучить его к себе, и успела; я давала ему хлеб, сахар, соль; брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли; гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня, и наконец достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка.
Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню; Алкид встречал меня ржанием, я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор; потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину; быстрые движения его, прыганье, храпенье нисколько не пугали меня: я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенною за ворота, потому что они были еще заперты. Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною Алкида; но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами. К счастию моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко усмирила Алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою; он пошел шагом, и когда я обняла шею его и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала, с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке; но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвести Алкида в конюшню; при этом обещании лицо Ефима выяснелось, он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня!» Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно и, сгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосыили за плечо.
С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте; я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Одним словом, не было места, куда б я не пошла ночью так же смело, как и днем; хотя мне так же, как и другим детям, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть; хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась; напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженною ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу; но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое.
В один день матушка поехала с дамами гулять в густой бор за Каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтоб я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый еще раз в жизни моей, что вывезли меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку! Я едва не задохлась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала — и бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны; тогда-то радость моя была полная и совершенная: я бегала, прыгала, рвала цветы, взлезала на вершины высоких дерев, чтоб далее видеть, взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз, и молодое деревце легонько ставило меня на землю! Два часа пролетели как две минуты! Между тем меня искали, звали в несколько голосов; я, хотя и слышала их, но как расстаться с пленительною свободою! Наконец, уставши чрезвычайно, я возвратилась к обществу; мне не трудно было найти их, потому что голоса, меня зовущие, не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве; они вскрикнули от радости, увидев меня; но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятою девчонкою, заклявшуюся сердить ее всегда и везде! Мы приехали домой; матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо; приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы. «Вот я тебя, негодную, привяжу на веревку и буду кормить одним хлебом!» Сказавши это, она пошла к батюшке рассказать о моем, как она называла, чудовищном поступке, а я осталась перебирать коклюшки, ставить булавки и думать о прекрасной природе, в первый раз еще виденной мною во всем ее величии и красоте! С этого дня надзор и строгость матери моей хотя сделались еще неусыпнее, но не могли уже ни устрашить, ни удержать меня.
От утра до вечера сидела я за работою, которой, надобно признаться, ничего в свете не могло быть гаже, потому что я не могла, не умела и не хотела уметь делать ее, как другие, но рвала, портила, путала, и передо мною стоял холстинный шар, на котором тянулась полосою отвратительная путаница — мое кружево, и за ним-то я сидела терпеливо целый день, терпеливо потому, что план мой был уже готов и намерение принято. Как скоро наступала ночь, все в доме утихало, двери запирались, в комнате матушки погашен огонь, я вставала, тихонько одевалась, украдкою выходила через заднее крыльцо и бежала прямо в конюшню; там брала я Алкида, проводила его через сад на скотный двор и здесь уже садилась на него и выезжала через узкий переулок прямо к берегу и к Старцовой горе; тут я опять вставала с лошади и взводила ее на гору за недоуздок в руках, потому что, не умея надеть узды на Алкида, я не могла бы заставить его добровольно взойти на гору, которая в этом месте имела утесистую крутизну; итак, я взводила его за недоуздок в руках и, когда была на ровном месте, отыскивала пень или бугор, с которого опять садилась на спину Алкида, и до тех пор хлопала рукою по шее и щелкала языком, пока добрый конь пускался в галоп, вскачь и даже в карьер; при первом признаке зари я возвращалась домой, ставила лошадь в конюшню и, не раздеваясь, ложилась спать, через что и открылись, наконец, мои ночные прогулки. Девка, имевшая за мною смотренье, находя меня всякое утро в постели совсем одетую, сказала об этом матери, которая и взяла на себя труд посмотреть, каким образом и для чего это делается; мать моя сама видела, как я вышла в полночь совсем одетая и, к неизъяснимому ужасу се, вывела из конюшни злого жеребца! Она не смела остановить меня, считая лунатиком, не смела кричать, чтобы не испугать меня, но, приказав дворецкому и Ефиму смотреть за мною, пошла сама к батюшке, разбудила его и рассказала все происшествие; отец удивился и поспешно встал, чтоб идти увидеть своими глазами эту необычайность. Но все уже кончилось скорее, нежели ожидали: меня и Алкида вели в триумфе обратно каждого в свое место. Дворецкий, которому матушка приказала идти за мною, видя, что я хочу садиться на лошадь, и, не считая меня, как считала матушка, лунатиком, вышел из засады и спросил: «Куда вы, барышня?»
После этого происшествия мать моя хотела непременно, чего бы то ни стоило, избавиться моего присутствия и для того решились отвезти меня в Малороссию к бабке, старой Александровичевой. Мне наступал уже четырнадцатый год, я была высока ростом, тонка и стройна; но воинственный дух мой рисовался в чертах лица, и, хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка говорили мне всякий день, что я совсем не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость напечатлели на физиономии моей выражение страха и печали. Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этого описания; я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим. Отец тоже говорил часто: «Если б вместо Надежды был у меня сын, я не думал бы что будет со мною под старость; он был бы мне подпорою при вечере дней моих». Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные — любовь к отцу и отвращение к своему полу, — волновали юную душу мою с одинаковою силою, и я с твердостию и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу.