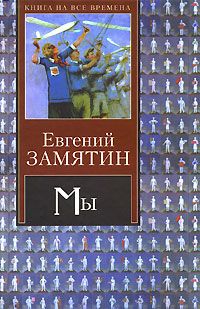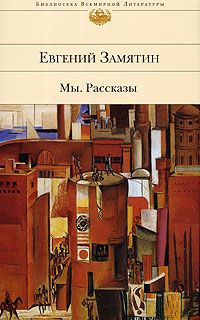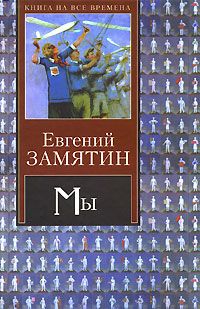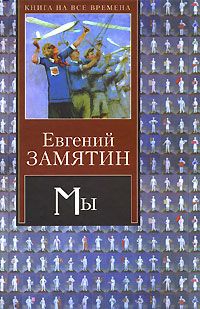Евгений Замятин - Слово предоставляется товарищу Чурыгину
Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет бога ввиду предрассудков тоже неполное удостоверение, однако чуем — это все не зря, и действительно ждем. Чего ждем — не знаем, а вроде как бы животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И притом ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим — про Григория Ефимыча.
В течение времени этак происходит день или два, и затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади конная естафета прямо в тарантаевскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится — от мороза распухло и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий, и он говорит: «Это — оно самое, начинается. Теперь глядите за усадьбой невступно и мне докладайте».
На случай часовых поставили меня да еще одного — горбатый такой у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и притом все слыхать, какое на дворе волнение и собаки, и мы трясемся. Спустя, глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота, и выскакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой, плачет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, который на барыню, как на собаку, просто кричит: «Але!» И, значит, санки — в одну сторону, а этот конный — обратно в другую, то есть на нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся, и я — прямо как в виде алкоголя — сам не знаю, чего делаю, руками махаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановился и задает мне: «Что случилось?» — и лошадью мне в морду храпит. А я ему безо всяких: «У нас, — говорю, — ничего, а вот у вас что?» — «Это, — говорит, — не касается. Але!» Я ему в глаза уперся и с выражением говорю: «А как, — говорю, — насчет Григория Ефимыча? Это вам касается?» И он мне возражает с известным смехом: «Григорий Ефимыч твой — тю-тю: его, слава Богу, давно пристрелили!» — и при этом скачет в направлении.
Тут я что есть мочи — к Егору. В избе у него полное присутствие наших мужиков, и все в натянутом ожидании. Как я начал докладать, то мое невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, и я плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу — все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение Егор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.
Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у вас в Питере происходит торжество революции со знаменами, а у нас такое, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, наши отдаленные звуки в полной связи с вами, и притом ужасный мороз. И мы все собрались у Егоровой избы в валенках, а Егора в виде трибуны посадили в кошелку с сеном и поставили на розвальни. Спустя, Егор объявил из кошелки, что мы сейчас идем грудью на тарантаевскую усадьбу и пусть барин дает полный отчет, как убили пристоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а может, он еще, Бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, а снег на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как вроде у цепного, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пошел чесать.
Тарантаевский кровный черкес как нас увидал в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице и вы лучше без последствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошелки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно сломаем.
Тут мы слышим молчание с шепотом, потом заскрипели ворота — открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошелке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит вовсю к цели дома. Вдруг откуда ни возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину: «Стой!» И как только этот выкидыш общества увидал револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и притом сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: «Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы». А Егор ему грозно задает: «Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!» На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: «Что вы, — говорит, — мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили». Тут Егор облютел и на все стороны кричит: «Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах, ты такой-сякой», — и прочее, то есть разные матерные примечания. «И мы, — говорит, — тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера».
Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был в нутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.
Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками — вот этак вот, вроде крыльями, ну, прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»
Что, как — не знаем и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия вроде суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбыдрился возле статуи на скамейку, варежкой слезы вытирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему Евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура, а Егор из кошелки в полном размахе кричит: «Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с Богом — круши весь их роскошный бюджет!»
Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил к статуе, которая с копьем, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы встрепенулся из своего трупа и говорит: «Это ни в чем не виноватая драгоценная статуя, и я, может быть, вез ее сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс».
И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и говорит с выражением: «Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю вроде знамения и предлагаю обнажить шапки».
Я вас, граждане, кратно прошу принять, что как называемого Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как говорится — индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошелкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пущай глядит, как мы истребим весь его обиход. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития живого человека, но, однако, печальная судьба вышла вразрез наших ожиданий.
А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальней, на которых статуя и Егор в кошелке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки вроде подозрительных глаз, и одно, помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: «Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный день новой жизни!»
Только он это произнес, как видим: тот самый голубь порхнул вверх, а из чердачного окошка — незначительный дымок. И может быть, еще одно десятое мгновение секунды, после чего ужасный звук в виде выстрела — и наш Степка с улыбкой падает носом в сугроб.
Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклёматься не поспели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, а затем Егор с страшным выражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в него еще три раза с дополнением слов: «А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за все!»
Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий, или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскрётки стекол и прочей посуды и вроде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака и его пронзила пуля из военной руки Егора. И еще помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом.