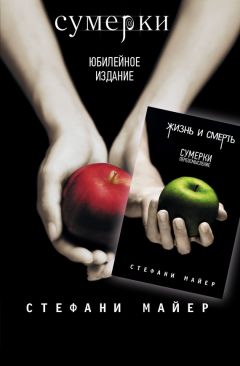София Дубнова-Эрлих - Жизнь и творчество С М Дубнова
Родители Симона были людьми иного душевного склада. Это были типичные еврейские труженики, с головой погруженные в заботы о содержании огромной семьи. Меир-Яков Дубнов (родился в 1833 г., умер в 1887) служил приказчиком у богатого тестя, который скупал лес у белорусских помещиков и сплавлял на юг. Заведуя рубкой и продажей леса, он проводил зиму вдали от семьи, в деревянном бараке в глуши Полесья, а с наступлением весны сопровождал плоты, плывущие к пристаням больших южных городов. Только к осенним праздникам возвращался он на короткое время домой - измученный девятимесячными скитаниями, молчаливый, вечно кашляющий. Зависимость от крутого и скупого тестя, заботы о семье в десять человек, вечные недомогания, перешедшие в хроническую болезнь легких, преждевременно состарили этого застенчивого, мягкого человека. Болезнь свела его в могилу в возрасте 54-х лет. Отец и сын привязаны были друг к другу, но настоящей близости между ними не было: через жизнь Симона отец прошел молчаливой тенью, оставив облако грусти, смутное ощущение вины. Единственное, что завещал он сыну - это окрепшее с годами сознание, что нет для человека большего проклятия, чем нелюбимый труд и погружение в материальные заботы ...
(14) В тесной трехкомнатной квартирке на Шулефе радость бывала редким гостем. Под бременем забот рано поблекла Шейна Дубнова, потухли ее кроткие темные глаза, обведенные сетью морщин. Худенькая, с продолговатым смуглым лицом, с высоким лбом под начесами парика, она с рассвета до поздней ночи сновала неутомимым муравьем, деля свое время между домом и лавкой. В серых утренних сумерках, ворочаясь на жестком сеннике, слышал мальчик молитвенный шепот матери возле своей постели. Ее узловатые; натруженные руки перебирали страницы большого женского молитвенника (Корбан-Минха), и тихие слезы катились по впалым щекам. Отдав дань Богу, она погружалась в мирские заботы: надо было, накормив ораву детей, торопиться с тяжелой связкой ключей в посудную лавку. Уже тащились к базарной площади, подымая клубы пыли, первые крестьянские телеги, уже сухопарый белорус в овчинном тулупе и пахнущих дегтем сапогах дожидался у дверей лавки, помахивая кнутовищем. Начинался яростный торг: маленькая женщина, лихорадочно роясь в ящиках, вытаскивала из ворохов пыльной соломы мутно-белые фаянсовые чашки и миски, а крестьянин деловито щелкал пальцем по фаянсу, смотрел на свет, а потом вступал в ожесточенный спор из-за нескольких грошей. Женщина не сдавалась: несколько лишних пятаков означали починку сапог для неугомонного Симона или ленту в косу для хорошенькой черноглазой Риси.
Поздно вечером запиралась с грохотом тяжелая, окованная железом дверь; мать плелась домой, еле волоча ноги, охрипшая, измученная. Узкие синеватые губы редко улыбались детям: ее любовь к ним была сплошной тревогой и заботой, ее молитва - беззвучным плачем. Но она не роптала: так жили все окружающие. И лишь в вечер наступления субботы в это истощенное тело вступала праздничная душа. Мальчик любил эти вечера:
теплое мерцание восковых свеч в начищенных фамильных подсвечниках, желтоватый витой ободочек халы, белизна заштопанной скатерти - от всего веяло непривычным миром и уютом. Прикрыв глаза пальцами, сквозь которые струился медовый свет, тихая труженица в почти беззвучной молитве стряхивала с себя пыль будней.
В обстановке убожества, в тесноте, в духоте, среди вечно (17) занятых и озабоченных взрослых дети росли, предоставленные самим себе. В большой семье редко возникает близость между старшими и младшими детьми: маленький Симон не мог по настоящему дружить ни с молчаливым братом Исааком, ученым талмудистом, который рано женился и переселился в другой город, ни со старшей сестрой Рисей, которая помогала матери по хозяйству и распевала грустные песни, втайне мечтая - вразрез с традициями - о браке по любви.
По настоящему дружен он был - с раннего детства до поздней старости - с братом Вольфом (Владимиром), который был старше на полтора года. По наружности братья были очень похожи друг на друга: та же смуглость кожи, типичный семитский нос с горбинкой, открытый лоб под густой гривой волос. Но у Симона в черных глазах горели задорные искорки, его движения были быстры и решительны, а Вольф был флегматичным, медлительным мальчиком. Неудивительно, что младший брат на всю жизнь остался для старшего авторитетом. Обстановка детства формирует душу человека и тогда, когда он ей подчиняется, и тогда, когда он против нее восстает: озабоченность, горечь, резигнация, разлитые в атмосфере семьи Дубновых, породили в Симоне бунт и тоску по иной жизни, в Вольфе отозвались пассивностью и меланхолией. Так определились пути будущего: Симону придется ковать свою судьбу в согласии с внутренним наказом; Вольф обречен жить в путах неудовлетворенности, под вечным гнетом тайного комплекса вины, который в минуту надрыва заставит его разбить свою личную жизнь. Ручьи, слитые в юности, впоследствии разойдутся; но ни годы, ни расстояние не ослабят ощущения крепкой, тесной дружеской связи, которую разорвать сможет только смерть.
(18)
ГЛАВА ВТОРАЯ
НА ШКОЛЬНОЙ СКАМЬЕ
Пыльная комната с низким закопченным потолком. Вокруг стола, грубо сколоченного из неструганных досок, испещренного чернильными пятнами, длинные деревянные скамьи. Сюда, в "азбучный хедер" привела Шейна Дубнова маленького Симона, одетого в чисто выстиранную и заштопанную курточку. Рыжеволосый добродушный меламед реб Куле ущипнул двумя пальцами, желтыми от нюхательного табака, смуглую щечку смущенного ребенка и принялся показывать ему большие буквы на таблице алфавита.
Детей-новичков сопровождали взрослые; при каждом удачном ответе ребенка отец бросал сверху пряник: детей уверили, что это дар ангела. Маленькому Симону ангел ничего не дарил: Шейне Дубновой некогда было заниматься баловством, и она ушла в лавку, торопливо сунув мальчику в карман несколько конфет.
Так началась хедерная страда, длившаяся с утра до вечера; перерыв делался только для обеда, состоявшего неизменно из ломтя хлеба и молочной похлебки с крупой. Учитель был доволен внуком реб-Бенциона: мальчик быстро выучился читать и принялся за Пятикнижие.
Медленно тянулся однообразный хедерный день. Склонясь над потрепанными книгами, дети громким нестройным хором читали Библию под руководством меламеда и переводили ее на родной идиш. Фантазия мальчика, которому никогда не рассказывали сказок, неутомимо работала: перед ним рдели яблоки в огромном райском саду, похожем на загородный монастырский парк, зарево пожара вставало над домами Содома, Яков пас стада в ложбине, пахнущей мятой, как тропинки, ведущие к (19) Вехре ... По вечерам, на твердом сеннике, маленький школьник долго не мог уснуть. В душной комнате с наглухо закрытыми ставнями чадила коптилка, сестры и братья стонали сквозь сон; мать, прикорнув у комода, считала медные монеты, вздыхала, почесывала вязальной спицей голову под париком; а под закрытыми веками мальчика проходили вереницей удивительные люди, беседовавшие с ангелами и самим Богом ...
В школе "азбучного меламеда" Симон провел три полугодия: она была преддверием к настоящему хедеру, в котором начиналось обучение Талмуду. Об этом хедере так рассказывают воспоминания: "новый ребе, Ице Пиплер, был прямой противоположностью предшественнику. Низенький, с толстым носом и близорукими глазами, он всегда был угрюм . . . От девяти часов утра до восьми вечера с часовым перерывом на обед, держал он нас, детей 8-9-ти лет, летом и зимой в тесной каморке хедера и томил наши головы премудростью, явно для нас недоступною. Он начал обучать нас Талмуду сразу, по полным текстам Мишны и Гемары . . . Вот мы читаем в Мишне о споре между двумя школами законоведов, Бет Шамай и Бет Гилель. Спор идет о том, можно ли есть яйцо, снесенное курицей в праздничний день . . . Об этом ведутся между учеными тончайшие прения, от которых вопрос еще больше запутывается ... В голове у меня мутится от этого громким хором читаемого странного текста, от всех этих изворотов мысли и казуистических тонкостей, которые ребе вбивает в наши детские головы криками, жестикуляцией, бранью по адресу непонимающих, а подчас ударами ремешка по спине или рукам". Пройдут годы, и юноша придет к убеждению, что изучение трактата "Беца" положило начало его позднейшему бунту против традиции.
Оазисом после талмудической пустыни казались библейские книги, изучению которых посвящены были вечерние часы. При тусклом свете сальной свечи дети монотонно читали нараспев историю Гидеона, повесть о богатыре Самсоне, драматические хроники периода царей. Бездарный и сухой учитель не умел своими объяснениями оживить тексты Библии, и мальчик не раз останавливался в недоумении перед недоступными его пониманию местами. Особенно смущал его Экклезиаст, который школьники читали в промежуточные дни праздника Сукот. (20) Стояла поздняя холодная осень, в щели палатки, сколоченной из досок, врывался резкий ветер; дрожь пробирала и от осенней стужи, и от странных, жутких слов, произносимых нараспев: "... что проку человеку от всех его стараний и трудов под солнцем? . . Все это суета и пустые затеи . . . Участь людей и скотов одинакова: и те, и другие умирают". "Много раз впоследствии - говорит автор "Книги Жизни" - когда меня охватывал и леденил мое миросозерцание космический холод, я вспоминал эту мрачную осень и трепет восьмилетнего мальчика перед раскрывшейся бездной" . . .