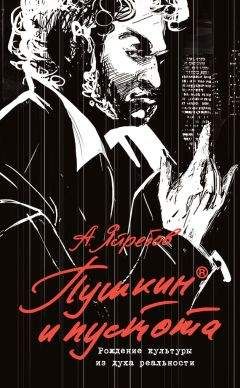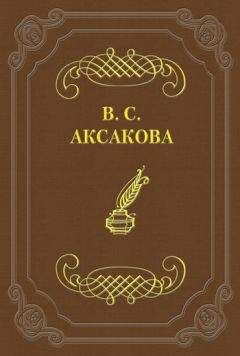Владимир Набоков - Пушкин, или Правда и правдоподобие
Короче говоря, по-моему, то, что делают с гением в поисках человеческого элемента, похоже на ощупывание и осматривание погребальной куклы, такой же, как розовые трупы покойных царей, которые обычно гримировали для похоронных церемоний. Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении и неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге? Сомневаюсь в этом, хотелось бы верить, что уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, ее неизбежно искажает. Все это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем.
А какое наслаждение для мечты русского проникнуть в мир Пушкина! Жизнь поэта как пародия его творчества. Бег времени, кажется, хочет повторить жест гения, придавая его воображаемому существованию такой же колорит и такие же очертания,- какие поэт дал своим творениям. В сущности, не имеет значения, если то, что мы представляем в своем воображении, всего лишь большой обман. Предположим, окажись у нас возможность вернуться назад и пробраться в эпоху Пушкина, мы бы его не узнали. Ну и что! Это удовольствие даже очень строгий критик, делающий в своем воображении то же самое, что и я, мне не может испортить. Вот он, этот невысокий живой человек, маленькая смуглая рука которого написала первые и самые прекрасные строки нашей поэзии; вот он, взгляд голубых глаз, составляющий резкий контраст с темными кудрявыми волосами. В то время, т. е. к 1830 году, в мужском костюме еще отражалась необходимость пользоваться лошадью, мужчина был все еще всадник, а не похоронный агент, т. е. практический смысл одежды еще не исчез (когда со смыслом исчезла и красота). Лошадью пользовались всерьез, и действительно были необходимы сапоги с отворотом и широкий плащ. Отсюда и определенная элегантность, которой воображение наделяет Пушкина, впрочем, он, следуя капризу времени, любил наряжаться цыганом, казаком или английским дэнди. Не будем забывать, что любовь к маскараду, действительно, характерная черта поэта. Смеющийся во все горло, пристукивая каблуками, он мелькает передо мной, как мелькают люди, вдруг, в порыве ветра возникающие на пороге какого-нибудь ночного кабаре (никогда больше не увидишь их лиц, освещенных уличным фонарем, не услышишь голосов и веселых шуток), потому что прошлое -- это ли не кабаре, кабаре в разгаре ночи, дверь которого я открываю с нетерпением. Я прекрасно понимаю, что это не Пушкин, а комедиант, которому плачу, чтобы он сыграл его роль. Какая разница! Мне нравится эта игра, и вот я уже сам в нее поверил. Одно другим сменяются видения: вот он на набережной Невы, мечтатель, облокотившийся о гранитный парапет, искрящийся при луне и инее; в театре, с моноклем, в розоватом свете, под звуки скрипок расталкивающий с модной заносчивостью соседа, чтобы занять свое место; потом в деревенской усадьбе, сосланный из столицы за несколько вольнолюбивых строк, в ночной рубашке, взъерошенный, марающий стихи на серой бумаге (в которую оборачивали свечи), жующий яблоко; я вижу его идущим по проселочной дороге, листающим книги в лавке, целующим стройную ножку возлюбленной, или в серебристый крымский полдень перед скромным маленьким фонтаном, струящимся во дворе старинного татарского дворца, с летающими ласточками под его сводами. Эти видения столь мимолетны, что подчас я не успеваю различить, держит ли он в руке трость или чугунную палку, с которой ходил специально для того, чтобы тренировать кисть для стрельбы, имея склонность к пистолетам, как все его современники. Пытаюсь следить за ним глазами, но он от меня постоянно убегает, чтобы вновь появиться; вот он: рука заложена за полу редингота, рядом со своей женой, красивой женщиной выше его ростом, в черной бархатной шляпе с белым пером. И, наконец, сидящий на снегу, с простреленным животом, он долго целится в Дантеса, так долго, что тот больше не может терпеть, и медленно прикрывается пистолетом.
Вот прекрасная романтизированная биография, или я сильно ошибаюсь! Пойдя этим путем, можно написать целую книгу. Однако, я не виноват в том, что у меня возникли эти видения, видения близкие всем русским, которые знают своего Пушкина и который так же неизбежно составляет часть нашей интеллектуальной жизни, как таблица умножения или что-то другое, привычное нашему уму. Возможно, все это обманчиво, и настоящий Пушкин в них не узнал бы себя, но если я вложил сюда хоть немного той любви, которую я испытываю к его произведениям, то эта воображаемая жизнь не напоминает ли если не самого поэта, то его творчество?
Когда говорят об эпохе, которую у нас принято называть периодом Пушкина, т. е. времени между 1820 и 1837 гг., невольно поражает явление скорее оптического, нежели интеллектуального характера. Жизнь в те времена сейчас нам кажется -- как бы сказать? -- более наполненной свободным пространством, менее перенаселенной, с прекрасными небесными и архитектурными просветами, как на какой-нибудь старинной литографии с прямолинейной перспективой, на которой видишь городскую площадь, не бурлящую жизнью и поглощенную домами с выступающими углами, как сегодня, а очень просторную, спокойную, гармонически свободную, где, может быть, два господина беседуют остановившись на мостовой, собака чешет ухо задней лапой, женщина несет в руке корзину, стоит нищий на деревянной ноге -и во всем этом много воздуха, покоя, на церковных часах полдень, и в серебристо-жемчужном небе одноединственное легкое продолговатое облачко. Создается впечатление, что во времена Пушкина все знали друг друга, что каждый час дня был описан в дневнике одного, в письме другого и что император Николай Павлович не упускал ни одной подробности из жизни своих подданных, точно это была группа более или менее шумных школьников, а он бдительным и важным директором школы. Чуть вольное четверостишье, умное слово, повторяемое в узком кругу, наспех написанная записка, переходящая из рук в руки в этом непоколебимом высшем классе, каким был Петербург,-- все становилось событием, все оставляло яркий свет в молодой памяти века. По-моему, пушкинский период -- это последняя в беге времени эпоха, куда наше воображение еще может проникнуть без паспорта, наделяя детали жизни чертами, заимствованными из живописи, которая тогда еще сохраняла монополию в изобразительном искусстве. Подумать только, проживи Пушкин еще 2-- 3 года, и у нас была бы его фотография. Еще шаг, и он вышел бы из тьмы, богатой нюансами и полной живописных намеков, где он остается, прочно войдя в наш тусклый день, который длится уже сто лет. Вот что я считаю достаточно важным, фотография -эти несколько квадратных сантиметров света -- торжественно откроет к 1840 году новую эру в изображении, продолжающуюся до наших дней, откроет так, что, начиная с этой даты, до которой не дожили ни Байрон, ни Пушкин, ни Гете, мы находимся во власти нашего современного представления и в этом представлении все знаменитости второй половины XIX века принимают вид дальних родственников, одетых во все черное, словно они носили траур по былой радужной жизни; чьи портреты всегда стоят в углах грустных и темных комнат, с мягкой, но отяжелевшей от пыли драпировкой на заднем плане. Отныне этот тусклый домашний свет ведет нас через гризайль века; очень возможно, что придет время, когда эта эпоха упрочившейся фотографии в свою очередь нам покажется художественной ложью, обязанной чьему-то особому вкусу, но все пока еще не так, и -- как же повезло нашему воображению! -- Пушкин не состарился и никогда не должен носить это тяжелое сукно с причудливыми складками, эту мрачную одежду наших прадедов с маленьким черным галстуком и пристегивающимся воротничком.
Я старался изо всех сил, чтобы описать воистину непреодолимые трудности, возникающие перед самым доверчивым умом, когда он пытается воскресить не с романтическим правдоподобием, а единственно правдиво образ великого человека, умершего сто лет назад. Признаем себя побежденными и обратимся скорее к его творчеству.
Конечно, нет ничего скучнее, чем описывать большое поэтическое наследие, если оно не поддается описанию. Единственно приемлемый способ его изучить -- читать, размышлять над ним, говорить о нем с самим собой, но нс с другими, поскольку самый лучший читатель -- это эгоист, который наслаждается своими находками, укрывшись от соседей. Охватившее меня в этот момент желание разделить с кем-то свое восхищение поэтом, в сущности, чувство опасное, не несущее ничего хорошего выбранной теме. Ведь чем больше людей читает книгу, тем меньше она понята, словно от ее распространения ее смысл теряется. Произведение показывает свое подлинное лицо, как только стихнет первый всплеск литературной известности. А для сочинений малопереводимых, хранящих свою тайну во мраке иностранного языка вопрос особенно усложняется. Нет ни одного француза, которому можно было бы сказать: если вы хотите узнать Пушкина, возьмите его произведения и уединитесь с ними. Решительно, наш поэт не привлекает переводчиков. Толстой, который к тому же равного с ним происхождения, или Достоевский, который по происхождению ниже его, пользуются во Франции такой же славой, как некоторые национальные писатели, но имя Пушкина, для нас так наполненное музыкой, для француза остается резким и невыразительным на слух. Несомненно, поэту всегда сложнее перейти национальные границы, чем прозаику. Но, когда речь идет о Пушкине, трудности имеют более глубокую причину. Русское шампанское,-- сказал мне как-то на днях один утонченный эрудит Ведь не будем забывать, что именно французскую поэзию, целый период этой поэзии, Пушкин предоставил в распоряжение русской музы. Поэтому, когда его стихи были переведены на французский, читатель стал узнавать в них то французский XVIII век, розовую поэзию с шипами эпиграмм, то псевдоэкзотический романтизм, который смешивает Севилью, Венецию, Восток в бабушках и материнскую Грецию, чей мед так сладок. Это первое впечатление настолько скверно, эта старая любовница столь бесцветна, что французский читатель был сразу же обескуражен. Банально говорить, что Пушкин -- это колосс, который держит на своих плечах всю поэзию нашей страны Но, как только берешься за перо переводчика, душа этой поэзии ускользает и у вас в руках остается только маленькая золоченая клетка. Весь следующий день я посвятил этому неблагодарному тяжкому труду. Вот, например, знаменитое стихотворение, где русский глагол, кажется, струится от счастья бытия, но в переводе оно становится не больше, чем подстрочником. (...) (1)