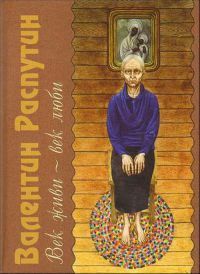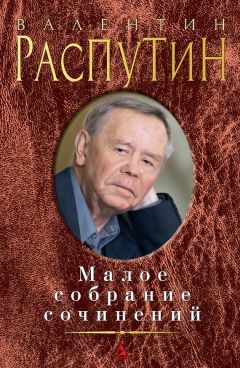Валентин Распутин - Век живи - век люби
И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его "заносит" в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. "Он не от обезьяны выродился, а от дьявола,- сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека.- Ежли бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хужей, тем милей. Это от него, от нечистого".
Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:
- Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды понче - от и до.
Эх, слышал бы это папа, слышал бы... У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно,- до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это "от и до", означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-что, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: "Люди говорят, сыпом ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. Плакала моя ягодка".
На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей - только подавай!
Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоян-но тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.
И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то "сидел", кроме того, он "пил" - были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его "заносило", рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних похождений Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и стара-ется отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвен-ники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: "Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился". Вот это "из круга выбился" почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом - и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?
Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:
- Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.
Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить - нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.
Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:
- А хошь - пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть - я бегал, смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.
И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.
- Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.
- Не дойдешь, там останешься,- сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман.- Только это... с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главно, потеплей бери на ночь.
* * *
Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за послед-него дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда не свет, не темь, толпа действительно казалась огромной много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне, на воде, один за другим взревывали оглушительно моторы, и лодки с пригнув-шимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. То, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы.
В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескиваю-щими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирал стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и - за спины, за спины...
- Куда?! - весело закричал ему вслед Митяй.- Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.
Саня оглянулся: почему пустая голова? - но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Все по отдельности было некстати - шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги - и все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще. Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку все равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо.
Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:
- А горбовик отцов где?
- Он большой сильно.
- Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главно, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.
Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкот-ню, подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше.