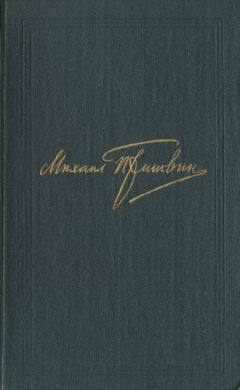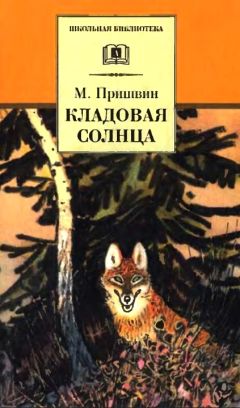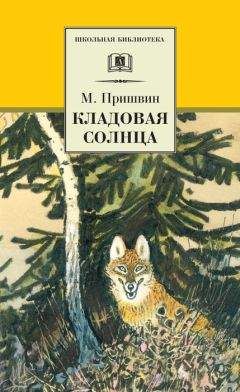Михаил Пришвин - Том 5. Лесная капель. Кладовая солнца
А после оказалось, раздумывал я: из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица стало все как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все.
Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить: потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы, как я: попробуй-ка, забудь свои неудачи в любви и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели.
И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была, самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от «таланта».
Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал!»
Аришин вопросКогда эта женщина ушла от меня, Ариша спросила:
– А кто у ней муж?
– Не знаю, – сказал я, – не спрашивал. И не все ли нам-то равно, кто у ней муж.
– Как же так «все равно», – сказала Ариша, – сколько сидели с ней, разговаривали, и не знаете, кто у ней муж, я бы спросила.
В следующий раз, когда она пришла ко мне, вспомнился Аришин вопрос, но я опять не спросил, кто у ней муж. Я потому не спросил, что она мне чем-то понравилась, и догадываюсь, именно тем, что глаза ее напомнили мне возлюбленную моей юности чудесную Фацелию. То или другое, но она мне нравилась именно тем же, чем некогда и Фацелия: она не возбуждала во мне помыслов о сближении, напротив, этот мой интерес к ней отталкивал всякое бытовое внимание. Никакого дела мне теперь не было до ее мужа, семьи, дома.
Когда она собралась уходить, мне вздумалось, после трудной работы, подышать воздухом, быть может и проводить ее до дому. Мы вышли, было морозно. Черная река зябла, и струйки пара перебегали всюду, и от ледяных заберегов слышался шорох. Такая была страшная вода, бездна такая, что казалось, и самый несчастный, кто решился бы утонуть, взглянув в эту черную бездну, вернулся к себе домой радостный и прошептал, разводя самовар:
– Вздор-то какой – топиться! Там еще хуже нашего. Тут-то я хоть чаю попью.
– А у вас есть чувство природы? – спросил я свою новую Фацелию.
– А что это? – спросила она, в свою очередь.
Она была образованная женщина и сотни раз читала и слышала о чувстве природы. Но вопрос ее был такой простой, искренний. Не оставалось никакого сомнения: она действительно не знала, что такое чувство природы.
«И как она могла знать, – подумалось мне, – если она-то, может быть, эта моя Фацелия, и есть сама „природа“».
Эта мысль поразила меня.
Еще раз захотелось мне с этим новым пониманием заглянуть в милые глаза и через них внутрь той самой моей «природы», желанной и вечно девственной и вечно рождающей.
Но было совсем темно, и взлет моего большого чувства попал в темноту и вернулся назад. Какая-то вторая моя натура вновь поставила этот Аришин вопрос.
В это время мы проходили по большому чугунному мосту, и, как только я открыл рот, чтобы задать своей чудесной Фацелии Аришин вопрос, сзади себя я услышал чугунные шаги. Я не хотел обернуться и посмотреть, какой великан шел по чугунному мосту. Я знал, кто он был: он был командор, карающая сила за бесплодность мечты моей юности, поэтической мечты, вновь подменяющей мне подлинную любовь человеческую.
И когда я поравнялся с ним, он только тронул меня, и я полетел через барьер в черную бездну.
Я очнулся в постели и подумал: «Не так-то уж глуп, как я думал, этот бытовой Аришин вопрос: если бы я в юности своей не подменил любовь свою мечтою, я не потерял бы свою Фацелию и сейчас через много лет не приснилась бы черная бездна».
БезднаЕсли кто скажет, что бездна тянет его в нее броситься, то это значит: он сильный, стоит у края ее и удерживается. Слабого бездна не тянет и отбрасывает на покойные безопасные берега.
Бездна – испытание силы всему живому, той силы, которую нельзя ничем заменить.
Но, сильный, помни: может быть, придет такой час и такая бездна откроется, что скажет тебе: «Уйди прочь, ты не можешь». Нужно вовремя отходить от бездны, сохраняя в себе последнюю силу на крайний, на последний случай, и жить до конца в постоянном сознании: хоть раз, да могу; и тогда может случиться, что человек победит даже смерть последним, страстным желанием жизни.
Росстань
Стоит столб, и от него идут три дороги; по одной, по другой, по третьей идти – везде беда разная, но погибель одна. К счастью, иду я не в ту сторону, где дороги расходятся, а оттуда назад, – для меня погибельные дороги у столба не расходятся, а сходятся. Я рад столбу и верной единой дорогой возвращаюсь к себе домой, вспоминая у росстани свои бедствия.
Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки – началась капель. «Я! я! я!» – звенит каждая капля, умирая; жизнь ее – доля секунды. «Я!» – боль о бессилии.
Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель.
Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень большой и крепкий, ему, может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновенье, и это мгновенье – боль бессилия. И все же: «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке.
ГраммофонДо того тяжела была утрата друга, что о внутреннем моем страданье стали замечать и посторонние. Жена моего хозяина это заметила и потихоньку спросила меня, чем это я так расстроен. Я встретил первого человека, проявившего живое участие, и все ей рассказал о Фацелии.
– Ну, я вас сейчас вылечу, – сказала хозяйка и велела мне отнести в сад ее граммофон. Там было много цветущей сирени. Еще там была посеяна фацелия, и ярко-синяя цветущая поляна вся гудела пчелами. Добрая женщина принесла пластинку, завела, и в граммофоне знаменитый в то время певец Собинов запел арию Ленского. Хозяйка восхищенно смотрела на меня, готовая помочь мне всем, чем могла. Каждое слово певца процветало любовью, пропитывалось медом фацелии, веяло ароматом сирени.
С тех пор прошло множество лет. И когда мне случается слышать где-нибудь арию Ленского, то все непременно возвращается: пчелы, синяя фацелия, сирень и моя добрая хозяйка. Тогда я не понял, но теперь знаю, что она действительно вылечила меня от безысходной тоски, и когда все вокруг меня начинают с презрением говорить о мещанстве граммофона – я молчу.
Аппетит к жизниПриходил расстроенный человек, назвался «читателем» и просил у меня такого слова, которое могло бы ему спасти жизнь.
– Вы же, – говорит он, – слову служите, и видно по вашим писаниям, что слово такое знаете. Скажите мне такое слово.
Я сказал, что таких слов про себя для особого случая не держу, если бы знал их, то сказал.
Никаких отговорок слышать он не хотел: вынь да положь. До того расстроен, что плакал. И когда уходил и в передней увидал свой узелок с сапогами, еще больше заплакал. Он объяснил, что, надевая дома валенки, вспомнил, – возможна оттепель, и захватил сапоги.
– Значит же, – сказал он, – сохраняется во мне такой аппетит к жизни, что подумал о возможности весенней оттепели.
Когда он это сказал, я вдруг вспомнил, как я сам свою беду-утрату погасил некогда подобным ожиданием весны, сколько из этого родилось потом у меня слов утешения, и мне стало радостно на душе: я знаю слова утешения и написал их, но только читатель попался мне плохой.
И тогда я вспомнил кое-что и неизвестному человеку сказал, как сумел.
Ключ к счастьюВ мире нет ничего чужого, мы так устроены, что видим только свое; один видит больше, другой видит меньше, но все – только свое и ничего больше.
Приходишь в себя, обыкновенно разглядывая какую-нибудь подробность, сущую мелочь, через которую и входишь в тот мир, где «я» делается душой всего. Много лет я думал над этой подробностью, мелочью, которая является воротами в желанный мир. Я храню множество памятных случаев, но отчего, при каких условиях является самое родственное внимание, на почве которого происходит встреча, разобрать до конца до сих пор не могу. Ключа тут, вероятно, быть и не может: ведь это был бы ключ к счастью. Знаю одно, что вертеть надо разными ключами, вертеть до тех пор, пока замок не откроется.