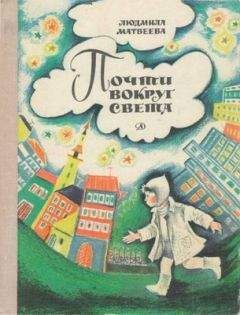Лидия Чуковская - Спуск под воду
Благополучные, нарядные люди! Я сразу подумала о своей старой шубе, о незавитых волосах и незакрашенной седине. Оказывается, здесь буду не только я со своей памятью и работой, наедине с лесом, небом и книгами, а я и чужие люди, да еще такие, которым скучновато и хочется поразвлечься. Я как-то не думала раньше об этом, когда ехала сюда - в одиночество. Не предусмотрела существования людей.
Я шла и шла вперед, а березы все кружились. Вот-вот и меня закружат. Плотный, видимый воздух стоял между стволами. Чем-то эта роща напоминала мне Голландию, в которой я никогда не была. Все набухшее влагой, мутное, тяжелое, расплывчатое. На выставке картин Остроумовой-Лебедевой такой увидела я Голландию - тяжелой, размытой, влажной. И в Ленинграде бывают такие дни: не разглядишь с Университетской набережной золотого Исаакия на другой стороне реки.
Я повернула. Мне есть куда идти: сегодня я буду работать без телефонных звонков, без разговоров за стенкой, без обиды за Катю, которой негде приткнуться.
Я уехала - и теперь, вернувшись из школы, она может, не стесняя меня, решать задачи за столом.
Вон вдали уже веревка и корчащиеся рубахи. А за бельем ели и освещенное крыльцо дома.
Я остановилась прислушаться: жива ли тревога?.. Да, видно от материнской тревоги не бывает отдыха: я могу и сейчас, под этот добрый круглый шум, пальцем показать в каком месте сердца она живет. Здорова ли Катюша? Не поскользнулась ли, возвращаясь из школы? Не довела ли ее до слез учительница, которая требует, чтобы все зубрили наизусть: "Надо выучить так, чтобы от зубов отскакивало". А Елизавета Николаевна... Но о Елизавете Николаевне лучше не думать...
Дом сиял мне навстречу огнями, раздевалка пахнула теплом, девушка-гардеробщица отложила книгу и помогла мне раздеться. Вся я была пропитана воздухом насквозь, с головы до пят. Нет, не только шапка, галоши, шуба, но и щеки, и грудь, и ноги - вся. Дом встретил меня городским надежным теплом труб, блеском паркетов и медицинскими заботами. Меня позвали к врачу. Потом - принять хвойную ванну. Потом принесли мне лекарство. И врач, и медицинская сестра, и беленькая курносая девушка, которую я застала у себя в комнате за уборкой - все с сердечным участием относились к моим болезням, процедурам, питанию, плечикам в шкафу для моего единственного платья, цвету чернил, которыми я предпочитаю писать... Конечно, на самом деле все это их мало трогало, но хорошо, что ласковое притворство входит в их обязанности.
Это не то, что в миру.
Стоишь в домоуправлении, ожидаешь справки. Стула нет, сесть некуда. А девушка беседует с ухажером: обсуждается вопрос, пойдут ли они сегодня в кино. Паренек сбоку навалился на стол, дышит ей прямо в лицо, поигрывая бровями. Плененная этой игрой, она портит четвертый бланк, - а я все стою.
- Почему у вас нет стула для посетителей?
-- Вы здоровый человек, можете и постоять. - И пареньку, передавая ему фотографическую карточку:
-- Ты поглядишь на это фото. И сразу вспомнишь оригинал.
- Но я не желаю стоять перед вами.
- Хоть лежите, мне все равно!
Нет, здесь не так.
Девушка, вытирающая на столе несуществующую пыль, осведомилась, не придти ли ей убирать потом? Не мешает ли она мне сейчас? Ей наверное лет семнадцать - годика на три она старше Кати. Такая она тоненькая, беленькая, испуганная - с опаской вытирает чернильницу: чужая, писательская чернильница, разобьешь - хлопот не оберешься. Да и велено: когда пишут, не мешать. Курносым круглым личиком она похожа на купидона - того, бронзового, что выглядывает из-за ствола лампы на рояле в гостиной. "Я вам не мешаю? Я могу опосля" - лепечет она.
II 49 г.
До сих пор мне удавалось приходить в столовую раньше всех и я успевала поесть в одиночестве, но сейчас, когда, сделав утреннюю порцию перевода в тишине своей комнаты, я спустилась в столовую, за моим столиком сидели еще двое.
- Видите, как я о вас забочусь, - сказала мне Людмила Павловна совершенно с той интонацией которую я придумала, идя в день приезда по коридору следом за ней. - Я посадила вас между двух интересных мужчин.
Интонация так точно совпадала с придуманной мною, что я ждала: не произнесет ли она также и изобретенные мною слова насчет облагораживающего воздействия свободной профессии? Но нет. Она расспросила меня, что я ем, чего не ем.
В столовой пышность Людмилы Павловны облечена в белый накрахмаленный халат. На минуточку она присела на свободный стул за нашим столиком и при ясном свете чисто вымытого окна, я увидела что ей отнюдь не двадцать восемь и не тридцать восемь, а наверное все пятьдесят, что она страстно хочет выглядеть стройной, затягивается, но скрыть избыток жира не в силах.
Двое "интересных мужчин" - мой спутник по санаторной машине, Николай Александрович Билибин, и молодой лысеющий журналист, сотрудник "Литературной газеты", Сергей Дмитриевич Саблин.
Какие они? Сразу не поймешь, но веселые, приветливые. Во всяком случае, они безусловно достойны более молодой и элегантной дамы, чем я. Но и со мной они были вполне любезны, особенно Билибин.
Он сказал:
- Мы ведь с вами, хотите не хотите, Нина Сергевна, близнецы: приехали в один день, доставлены с вокзала в одной машине, да и комнаты наши на одном этаже.
Что-то в его наступательной, развязной любезности мне не совсем приятно. Я еще в машине жалась от нее в угол, прислушиваясь к низкому, красивому, актерскому голосу. Он тогда все заговаривал с шофером, но я слышала, что он говорит для меня. И потому не отзывалась.
- На украинском фронте, - рассказывал он теперь журналисту, - мы весною совершенно увязали в грязи. Развезло глину, нету хода машинам, что будешь делать? Завидовали колхозникам, те на волах отлично передвигались. Шоферы, как увидят волов, говорят: это, говорят, Му-Му 2... Машина марки Му-Му 2...
Журналист рассмеялся. Я - нет. Но Билибину непременно надо было добраться до меня.
- Над чем работаете сейчас? - спросил он, передавая мне капусту... Кушайте, в ней много витаминов...
- Да так... - ответила я неопределенно, - перевожу.
У Билибина потертый пиджак, на ногах - валенки, но выглядит он, пожалуй, элегантнее молодого журналиста в светлом костюме и заграничном галстуке.
Что-то в его медленных, ленивых движениях, в крупных плечах чувствуется барское, холеное. У него широкие руки рабочего человека, а ногти отточенные, длинные.
Мужчины вежливо поджидали, пока я покончу с кремом. За соседним столиком слышалось щелканье сумки, хлопанье пробок и смех. Это кинорежиссер, несмотря на ранний час, угощал свою даму вином. Белый большой воротник на ее платье и пышные золотые кудри были гораздо свежее лица.
- Мало народу сегодня в столовой, - сказала дама, обводя комнату глазами. - Верно, спустились еще не все, кто живет.
- С кем живет? - нехотя спросил кинорежиссер.
Билибин рассказывал мне и журналисту о своем новом романе. (Я не читала и старых). Роман посвящен сибирским угольным шахтам, технически-прогрессивным способам разработки породы, внедрению механизации. С производственным конфликтом тесно переплетается семейный разлад. Роман уже почти принят в " Знамени" - просили только слегка расширить парторга...
- Вот сижу по шесть часов в день и расширяю парторга, - сказал Билибин, повернув ко мне большое лицо с высоким лбом и тонким носом и взглянув мне прямо в глаза спокойными желтыми глазами. - За тем и приехал.
Усмешки у него в глазах не было, но хотя они и были открыты и глядели прямо на меня, мне показалось, что они прикрыты чем-то.
Я встала из-за стола. Мои собеседники проводили меня до дверей.
- А вы уже заметно посвежели, право, - сказал Билибин тоненькой темноглазой даме, которая шла нам навстречу. Она улыбнулась, показывая мелкие ровные зубы. - Не бойтесь, не бойтесь, не сглажу! У меня глаз добрый.
Я поднялась к себе.
... II 49 г.
Ночью я проснулась от стука сердца. Слезы текли по волосам и щекотали ухо.
Что-то случилось ужасное, но что - я не могла вспомнить. Вспоминался не самый сон, а лишь испытанный ужас.
Я лежу на широкой мягкой постели. Кровь толкается в уши, сердце все не может придти в себя после обрыва.
Ночная тишина, плотная, черная, стоит кругом. Ее хочется тронуть рукой, попробовать на ощупь, как материю.
Света не зажжешь - электростанция по ночам не работает. Да и с этим ужасом в груди легче существовать так, без света.
Что это было? Сердце стучит в горле, в ушах, в висках, наполняет горячим стуком грудь и, кажется, комнату. Наверное, я снова видела Алешину смерть.
Но которую? Какую? В дороге? В лагере? На допросе?
Я ничего не знаю о его конце и потому всякий пригоден для моего воображения.
Но с того разговора на каменной лестнице возле воды, того, осеннего, ко мне повадился сон про Алешину смерть на допросе. Сколько уж раз я видела во сне его смерть? Можно было бы точно сосчитать по дневнику, да с дневником я ведь всегда в разлуке... Можно и так сосчитать: началось это в сороковом году осенью, под мелким дождиком, когда одна моя подруга назначила мне внезапно свидание на набережной и мы спустились по ступенькам к черной воде, дышащей стужей - тут, внизу, на этих плоских гранитных плитках у воды, тут надежно, никого, ничего - и она рассказала мне про допрос со слов своей двоюродной сестры, а той под клятвой рассказал один человек, выпущенный в тридцать девятом. До тех пор мы конечно тоже догадывались, но не смели своим догадкам верить, а теперь догадка оказалась правдой и мы узнали наверняка, почему все признаются и оговаривают друг друга. (Я еще спросила у нее в тот раз про палец: как ты думаешь, сколько минут ты можешь выдержать, если тебе дверью прищемят палец?.. И она спросила в ответ: - А ты?) И вот с тех пор, вот уже значит скоро десять лет и поселился в моих ночах этот сон: допрос, и Алешина смерть на допросе.