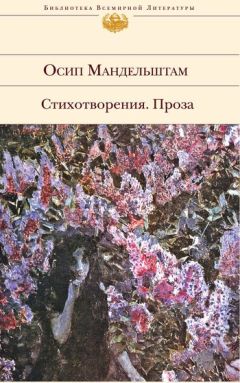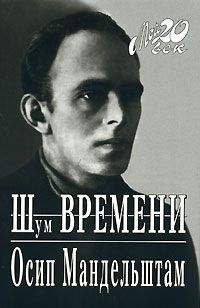Осип Мандельштам - Египетская марка
Ему хотелось поступить драгоманом в министерство иностранных дел, уговорить Грецию на какой-нибудь рискованный шаг и написать меморандум.
В феврале он запомнил такое событие:
По городу на маслобойню везли глыбы хорошего донного льда. Лед был геометрически-цельный и здоровый, не тронутый смертью и весной. Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко зеленая хвойная ветка, {18} словно молодая гречанка, в открытом гробу. Черный сахар снега проваливался под ногами, но деревья стояли в теплых луночках оттаявшей земли.
Дикая парабола соединяла Парнока с парадными амфиладами истории и музыки.
- Выведут тебя, когда-нибудь, Парнок, - со страшным скандалом, позорно выведут - возьмут под руки и фьюить - из симфонического зала, из общества ревнителей и любителей последнего слова, из камерного кружка стрекозиной музыки, из салона мадам Переплетник - неизвестно откуда, - но выведут, ославят, осрамят...
У него были ложные воспоминания: например, он был уверен, что когда-то, мальчиком, прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Все гроздья лампочек и пачки свеч с хрустальными сосульками вспыхнули сразу мертвым пчельником. Электричество хлынуло таким страшным потоком, что стало больно глазам, и он заплакал.
Милый, слепой, эгоистический свет.
Он любил дровяные склады и дрова. Зимой сухое полено должно быть звонким, легким и пустым. А береза - с лимонно-желтой древесиной. На вес не тяжелее мерзлой рыбы.
Он ощущал полено, как живое, в руке.
{19} С детства он прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он говорил с ними на диком и выспреннем птичьем языке исключительно о высоких материях.
Шапиро звали "Николай Давыдыч". Откуда взялся "Николай" неизвестно, но сочетание его с Давидом нас пленило. Мне представлялось, что Давыдович, т. е. сам Шапиро, кланяется, вобрав голову в плечи, какому-то Николаю и просит у него взаймы.
Шапиро зависел от моего отца. Он подолгу сиживал в нелепом кабинете с копировальной машиной и креслом "стиль рюсс". О Шапиро говорилось, что он честен и "маленький человек". Я почему-то бы уверен, что "маленькие люди" никогда не тратят больше трех рублей и живут обязательно на Песках. Большеголовый Николай Давыдыч был шершавым и добрым гостем, беспрестанно потирающим руки, виновато улыбающимся, как посыльный, допущенный в комнаты. От него пахло портным и утюгом.
Я твердо знал, что Шапиро честен и, радуясь этому, втайне желал, чтобы никто не смел быть {20} честным, кроме него. Ниже Шапиро на социальной лестнице стояли одни "артельщики" - эти таинственные скороходы, которых посылают в банк и к Каплану. Or Шапиро через артельщиков шли нити в банк и к Каплану.
Я любил Шапиро за то, что ему был нужен мой отец. Пески, где он жил, были Сахарой, окружающей белошвейную мастерскую его жены. У меня кружилась голова при мысли, что есть люди, зависимые от Шапиро. Я боялся, что на Песках поднимется смерч и подхватит его жену-белошвейку с единственной мастерицей и детей с нарывами с горле, как перышко, как три рубля...
Ночью, засыпая в кровати с ослабнувшей сеткой, при свете голубой финолинки, я не знал, что делать с Шапиро: подарить ли ему верблюда и коробку фиников, чтобы он не погиб на Песках, или же повести его вместе с мученицей - мадам Шапиро - в Казанский собор, где продырявленный воздух черен и сладок.
Есть темная, с детства идущая, геральдика нравственных понятий: шварк раздираемого полотна может означать честность, и холод мадеполама святость.
А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксафоном, лил ему {21} прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на темя ледяным мирром, и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробегал по его сухой коже и - матушка, пожалей своего сына - забирался под воротник.
- Не горячо?-спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед за тем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника.
И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согревалась мгновенно.
Парнок был жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман.
На бумаге верже, государи мои, на английской бумаге верже с водяными отеками и рваными краями, извещал он ничего не подозревающую даму о том, что пространство между Миллионной, Адмиралтейством и Летним садом им заново отшлифовано и приведено в полную боевую готовность, как бриллиантовый карат.
На такой бумаге, читатель, могли бы переписываться кариатиды Эрмитажа, выражая друг другу соболезнование или уважение.
{22} Ведь есть же на свете люди, которые никогда не хворали опаснее инфлуэнцы и к современности пристегнуты как-то сбоку, в роде котильонного значка. Такие люди никогда себя не почувствуют взрослыми и в тридцать лет еще на кого-то обижаются, с кого-то взыскивают. Никто их никогда особенно не баловал, но они развращены, будто весь век получали академический паек с сардинками и шоколадом. Это путаники, знающие одни шахматные ходы, но все-таки лезущие в игру, чтоб посмотреть, как оно выйдет. Им бы всю жизнь прожить где-нибудь на даче у хороших знакомых, слушая звон чашек на балконе, вокруг самовара, поставленного шишками, разговаривая с продавцами раков и почтальоном. Я бы их всех собрал и поселил в Сестрорецке, потому что больше теперь негде.
Парнок был человеком Каменноостровского проспекта - одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга. В семнадцатом же году, после февральских дней, улица эта еще более полегчала, с ее паровыми прачешными, грузинскими лавочками, продающими исчезающее какао, и шалыми автомобилями Временного правительства.
Ни вправо ни влево не поддавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на {23} Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский - это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий подмышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки.
{24}
III.
- Николай Александрович, отец Бруни!-окликнул Парнок безбородого священника-костромича, видимо еще не привыкшего к рясе и державшего в руке пахучий пакетик с размолотым жареным кофе.-Отец Николай Александрович, проводите меня!
Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно. Парнок считал его в некотором роде дамой.
Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство.
Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты с бантами.
{25} Но уже волновались айсоры-чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы.
Люблю зубных врачей за их любовь к искусству, за широкий горизонт, за идейную терпимость. Люблю, грешный человек, жужжание бормашины - этой бедной земной сестры аэроплана - тоже сверлящего борчиком лазурь.
Девушки застыдились отца Бруни; молодой отец Бруни застыдился батистовых мелочей, а Парнок, прикрываясь авторитетом отделенной от государства церкви, препирался с хозяйкой.
То было страшное время: портные отбирали визитки, а прачки глумились над молодыми людьми, потерявшими записку.
Жареный мокко в мешочке отца Бруни щекотал ноздри разъяренной матроны.
Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти лукавые серафимы прыскали ею на зефировый и батистовый вздор. Они куралесили зверски тяжелыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. Водевильные мелочи разбросанной пеной по длинным столам ждали очереди. Утюги в красных {26} девичьих пальцах шипели, совершая рейсы. Броненосцы гуляли по сбитым сливкам, а девушки прыскали.
Парнок узнал свою рубашку: она лежала на полке, сверкая пикейной грудкой, разутюженная, наглотавшаяся булавок, вся в тонкую полоску цвета спелой черешни.
- Девушки, - чья это?
- Ротмистра Кржижановского, - ответили девушки лживым, бессовестным хором.
- Батюшка, - обратилась хозяйка к священнику, - который стоял, как власть имущий, в сытом тумане прачечной, и пар осаждался на его рясу, как на домашнюю вешалку. - Батюшка, если вы знаете этого молодого человека, то повлияйте на них! Я даже в Варшаве такого не видела. Они мне всегда приносят спешку, но чтобы они провалились со своей спешкой... Лезут ночью с заднего хода, словно я ксендз или акушерка... Я не варьятка, чтобы отдавать им белье ротмистра Кржижановского. То не жандарм, а настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет и на руках теперь носят!