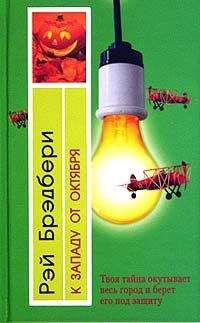Лев Толстой - Три смерти
- Хочу сапог попросить; свои избил, - отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом. - Аль спит? А дядя Хведор? - повторил он, подходя к печи.
- Чаво? - послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе. - Дай испить, брат; ты чаво?
Парень подал ковшик с водой.
- Да что, Федя, - сказал он, переминаясь, - тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.
Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь с силами.
- Може, ты кому пообещал уже, - сказал парень, - так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать; я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи...
В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.
- Уж где надобны, - неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка, второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевесть его, что ль, в избу в другую, или куда. Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело - занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают.
- Эй, Серега! иди садись, господа ждут, - крикнул в дверь почтовый староста.
Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.
- Ты сапоги возьми, Серега, - сказал он, подавив кашель и отдохнув немного. - Только, слышь, камень купи, как помру, - хрипя прибавил он.
- Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.
- Вот, ребята, слышали, - мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.
- Ладно, слышали, - сказал один из ямщиков. - Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.
Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.
- Эк сапоги важные! дай помажу, - сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи. - Даром отдал?
- Аль завидно, - отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка. - Пущай! Эх вы, любезные! - крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатились по мокрой дороге.
Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.
В избе до вечера приходили, уходили, обедали, - больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.
- Ты на меня не серчай, Настасья, - проговорил больной, - скоро опростаю угол-то твой.
- Ладно, ладно, что ж, ничаво, - пробормотала Настасья. - Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.
- Нутро все изныло. Бог его знает что.
- Небось, и глотка болит, как кашляешь?
- Везде больно. Смерть моя пришла - вот что. Ох, ох, ох! - простонал больной.
- Ты ноги-то укрой вот так, - сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.
Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.
- Чудно что-то я нынче во сне видела, - говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. - Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить; а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!
Федор не откликался.
- И то, не помер ли? Пойти посмотреть, - сказал один из проснувшихся ямщиков.
Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.
- Пойти смотрителю сказать, кажись, помер, - сказал ямщик.
Родных у Федора не было - он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.
III
Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.
На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.
У затворенных дверей комнаты стояли муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в эпитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка - мать больной - и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.
- Ну, Христос с вами, мой друг, - говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери, - она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же. - Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.
- Вот теперь, кажется, я не заплакана, - сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.
Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью бородка тоже поднялась кверху и опустилась.
- Боже мой! Боже мой! - сказал муж.
- Что делать? - вздыхая, сказал священник, и снова брови и бородка его поднялись кверху и опустились.
- И матушка тут! - почти с отчаяньем сказал муж. - Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.
Священник встал и подошел к старушке.
- Точно-с, материнское сердце никто оценить не может, - сказал он, однако бог милосерд.
Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.
- Бог милосерд, - продолжал священник, когда она успокоилась немного. - Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитревичу - можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для бога все возможно.
- Нет, уже ей не жить, - проговорила старушка, - чем бы меня, а ее бог берет. - И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.
Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.
В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.
- Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? - спросила няня.
- Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.
Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подбрыкнул ногой и с веселым криком побежал дальше.
- Это она будто бы вороная, папаша! - прокричал мальчик, указывая на сестру.
Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.
Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.
- Ах, мой друг, - сказала она, неожиданно перебивая ее, - не приготавливайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, - даже наверно, - была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость бога; всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпением свои страданья...