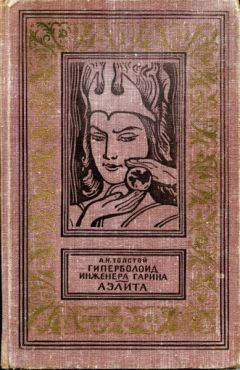Алексей Толстой - Похождения Невзорова, или Ибикус
— Неужели бесплатно?
— А как же иначе?
— Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну…
— Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.
— Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе. Большевики — это скверный эпизод, недолгий кошмар.
Еще где-то между нар шуршали женские голоса:
— До того воняет здесь, я просто не понимаю — чем.
— А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.
— Что же — дальше повезут?
— Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.
— Собаки-то при чем же?
— Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!
— А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться. Надоело в грязи жить.
— А что теперь в Париже носят?
— Короткое и открытое.
Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платьицах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:
— Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.
— Это тебя-то? — спросил Щеглов.
— И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например — в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя, — нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.
— Жалко, тебя раньше не слушали.
— Вернусь — теперь послушают.
— Сегодня что-то ты расхрабрился.
— Я всю ночь думал, представь себе, — сказал драгун, поправляя фуражку, — так, знаешь, расстроился… Я сегодня на заседании говорить буду… Высший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо повально целые губернии — вот программа. А войдем в Москву — в первую голову — повесить разных там… Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского… Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза…
Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеком по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:
— Ну, а с Прилуковым ты говорил?
Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забегали, краска отлила от лица, он опустил голову.
Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркнутым, особенным. «Так, так, — подумал он, — про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так, так», — повторил он, щурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства.
Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, мало привычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги пароходной машины.
Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.
— Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры — и я давал, приходили эсдеки — и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие турусы на колесах писали в этих газетах, — у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел — контрреволюционер.
— Кто мог думать, кто мог думать, — горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке, — мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе, прямо походя. Нет, Россия — это скотный двор.
— Хуже. Бешеные скоты.
— Разбойники с большой дороги.
— Хуже.
Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.
Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по расплавленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.
Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими — в ракурсе — телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда, — едут жить из милости.
Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная — скажем — вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди, — дешевка! А ведь суетятся, топорщатся… Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя, — даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце…
«Извиняюсь, уважаемые иностранцы, — мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк, — войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастье произродиться; денег, гостеприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды…»
Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова, — будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку…»
Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.
Вон сидит великолепная женщина, — сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам, — платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова…
А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка, — с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями… «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пустышка, попробуй, схвати рукой, — разожмешь одни чумазые пустые пальчики…»
А вон брюнеточка-живчик… Или эта хохотушка, офицерская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы… Или та — гордячка с плоскими ступнями, сонными веками… Или та, фарфоровая аристократка, смотрит, даже осунулась вся, — как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом… Вон оно — богатство, золотые россыпи!..
Семен Иванович выпрямился, — хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице, — помню, помню, — мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал, — вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических файф-о-клоках… Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали… Вообразить не смел, однако, встретились… Но припадать уж не могу, — далеко вниз бегать… И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки, Семен Иванович задохнулся волнением, — подождите, недолго — все будет; и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон…»
Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдения.
На палубу в это время поднялись двое — Щеглов и астраханский драгун — и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.