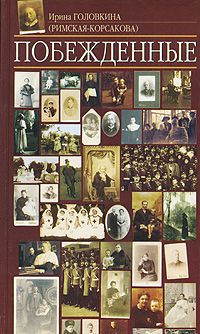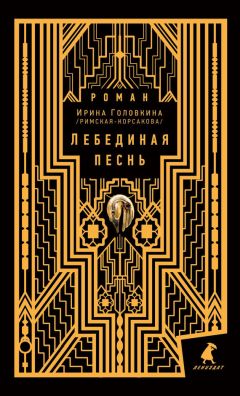Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Побеждённые
— Марина Сергеевна? — спросил он.
Ей трудно было поверить, что этот человек с измученным лицом, одетый почти как нищий, тот блестящий кавалергард-князь, с которым она танцевала когда-то мазурку на свадьбе Нины.
— Олег Андреевич! Вы? Откуда вы? Не с того ли света? Нина считала вас убитым! Где вы пропадали все это время? — защебетала она.
— Так вы видитесь с Ниной? Стало быть, мне вас послал Сам Бог! Я разыскиваю ее безуспешно уже несколько дней. Где она?
— Нина в Петербурге. Она, слава Богу, жива и здорова. Как она будет рада видеть вас! Господи, страшно подумать, как изменилась жизнь да эти одиннадцать лет, что мы с вами не виделись, и мы… Как изменились мы за это время!
— Вы сравнительно мало, Марина Сергеевна. Вы еще молоды, хороши, элегантны, а я… вот меня, я полагаю, трудно узнать, да это и лучше!
В его интонации было что-то подавленное и горькое.
— Если вас не шокирует разговаривать с человеком, похожим на нищего, выйдемте вместе, чтобы не мешать молящимся.
— Олег Андреевич, как вам не совестно говорить так! Теперь лохмотья лучший тон. Я и сама еще недавно была в лохмотьях и уважала себя больше, чем сейчас!
Они вышли из храма и подошли к маленькой скамеечке под липами, покрытыми инеем.
— Где же вы были все это время? — спросила она, садясь.
Он не сел, а стоял перед ней по-прежнему с обнаженной головой, и в изяществе его осанки было что-то такое, что безошибочно изобличало в нем гвардейского офицера.
— Рассказывать о себе было бы слишком длинно и скучно для вас, Марина Сергеевна. Это очень безотрадная повесть. В настоящее время я только что освобожден из концентрационного лагеря; три дня назад вернулся из Соловков.
— Вы?! Из Соловков? Боже мой!
— Вас удивляет это? Да кто же из лиц, подобных мне, избежал этой участи? Я провел семь с половиной лет на погрузке леса в Соловках и Кеми и в настоящее время получил освобождение за окончанием срока. Освобожден я, сверх ожидания, без всяких «минусов», а потому приехал сюда, разыскать Нину. Она единственный человек, оставшийся в живых из нашей семьи. Я думал, что могу еще быть полезен вдове и ребенку моего брата.
— Ребенку? У Нины нет ребенка, умер тогда же, младенцем. Она была в ужасных условиях… Вы про это не говорите с ней — это ее трагедия.
Он нахмурился:
— Вся наша жизнь — трагедия самая неудачная. А брат считал себя отцом, и когда умирал… — Он замолчал, видимо, вновь подавленный.
«Сказать или не сказать ему, что Нина стала артисткой и что у нее есть любовная связь. Нет, не скажу, пусть говорит сама», — думала Марина.
— Итак, вы знаете ее адрес? Вы можете проводить меня к ней?
— Могу и с радостью сделаю это через несколько дней. Дело в том, что сегодня Нина уехала на Свирстрой в концертную поездку. Она теперь зарабатывает пением — надо же на что-то жить.
— Через несколько дней? Для меня это новое осложнение: видите ли, отыскивая Нину, я думал отчасти и о себе — мне необходимо получить где-нибудь пристанище. Я без всяких средств в настоящую минуту и не могу снять комнату или угол, а между тем, пока я нигде не прописан, меня отказываются принимать на работу. Получается заколдованный круг, из которого я не могу выпутаться. Ночевать под открытым небом мне не в диковину, но мне нужно начать зарабатывать как можно скорее. Четыре дня это вечность для человека в моем положении.
— Ну, это пусть вас не беспокоит. Это мы как-нибудь устроим, а остановиться можно у Нины и в ее отсутствие: там ее братишка и тетка. Идемте, прежде всего, на вокзал, через сорок минут поезд, мы еще успеем на него. В вагоне мы обсудим дальнейшее, — и она быстро пошла вперед. — Сколько лет вы не были в Петербурге? — спросила она.
— С восемнадцатого года, уже десять лет! Все так изменилось, особенно люди. Я чувствую себя совсем чужим. Никого из прежних родных и друзей я до сих пор не могу найти. Вот и сюда, в Царское Село, я приехал, чтобы отыскать семью, очень близкую когда-то моим родителям, но их не оказалось, мне отворили чужие. А между тем, на эту поездку я истратил последние деньги. Я точно с другой планеты сейчас.
— А вас арестовывали разве не здесь?
— Нет, в Крыму, вскоре после взятия Перекопа, — сказал он, озираясь, не слушают ли их.
— Вы ранены были, у вас шрам на лбу?
— Да, еще тогда, в Белой армии.
Они входили уже в здание вокзала, когда она заметила, что он вдруг зашатался и схватился рукой за стену.
— Что с вами? — спросила она испуганно.
— Простите, пожалуйста, голова закружилась, сейчас пройдет.
Она смотрела на его бледное до синевы лицо, и с быстротой молнии у нее мелькнула мысль: он без денег, наверное, голоден, — и после минутного колебания сказала робко:
— Олег Андреевич, вы питаетесь теперь нерегулярно. Вы, может быть, проголодались и хотите закусить в буфете? Я с удовольствием одолжу вам.
— Благодарю вас, Марина Сергеевна, я буду вам очень признателен, если вы одолжите мне рубль или два, чтобы я мог купить себе булку и выпить стакан чаю — я верну с благодарностью, как только устроюсь на работу.
Она торопливо открыла сумочку:
— Вот, пожалуйста, простите, что я не догадалась с самого начала…
Как она, в самом деле, не догадалась? Неужели эти страшные десять лет ничему ее не научили, и нищета и голод в ее представлении до сих пор связывались с человеком из народа, протягивающим руку, а не с человеком ее круга, сохранившим благородную манеру и прямую осанку?
Через несколько дней положение несколько определилось. Олег был прописан в комнате с Микой — четырнадцатилетним братом Нины. Держа в руках документы Олега, Нина с удивлением увидела, что они выписаны на чужую фамилию. Он дал ей полное объяснение того, как это случилось. В ноябре 1920 года он был без сознания от ран, полученных во время отчаянных боев за полуостров. Денщик, желая спасти его от неизбежного расстрела, в ту минуту, когда отряд красных окружил госпиталь, отобрал у Олега его документы и положил к его изголовью чужие — только что скончавшегося рядового, по которым он значился уже не гвардейским поручиком князем Олегом Андреевичем Дашковым, а фельдфебелем, мещанином по происхождению, Осипом Андреевичем Казариновым.
Это спасло его от расстрела, которому были подвергнуты почти поголовно раненые офицеры.
Возвращаясь к жизни, Олегу пришлось забыть не только прежние привычки и образ жизни, но и прежнее имя. Скоро, однако, ему так опротивело имя Осип, что он пошел на риск и перед получением советских документов залил чернилами имя, оставив заметной лишь первую букву. Подозрений это, к счастью, не возбудило никаких, так как число букв совпало, как и первая буква. Таким образом ему удалось вернуть имя, полученное при крещении, и «совсправка» была выписана на Олега Андреевича Казаринова.
Нина слушала его со страхом.
— Олег, вы играете в опасную игру. Я понимаю, что она вам навязана всей обстановкой, что у вас нет выбора, и все-таки… Уверены ли вы, что вас никто не узнает и не выдаст из тех, кто знал вас раньше? Что ни в ком не возбудят подозрения ваши манеры, ваш разговор, ваше лицо, в котором нет ничего мещанского? Уверены ли вы, что не запутаетесь в бесконечных анкетах, которые вам придется заполнить при поступлении на любую службу? Ведь ваша биография теперь вся вымышленная.
— Вся. Но я ее зазубрил и повторяю в одном и том же варианте. Согласно моим документам, я сын столяра. Год моего рождения уже не тысяча восемьсот девяносто шестой, а девяносто пятый, я работал в Севастополе на заводе и был насильно завербован белыми; потом ранен и находился на излечении в госпитале, когда красные занимали Крым. Ну, а потом… Потом картина несколько меняется к худшему, так как Олег Казаринов уже выступает в роли укрывателя «классового врага». Дело в том, что, покинув госпиталь, я и мой денщик пристроились работать лодочниками, чтобы как-то существовать, а жили в заброшенной рыбацкой хибарке. Вскоре к нам присоединился знакомый мне гвардейский полковник, тоже скрывавшийся под чужим именем. Его узнали и выдали — очевидно, кто-то из местного населения, а мы были привлечены к ответу за укрывательство. Наказание я уже отбыл — семь с половиной лет в Соловках! Полагаю, достаточно! Надеюсь, что за «пролетарское» происхождение вина моя, наконец, забудется.
Он поцеловал ей руку, и она заметила горечь на его лице. Она почувствовала, что слишком холодна, а ведь у него, кроме нее, нет никого на свете, и она сказала тихо:
— Горе сушит человека, не правда ли, Олег?
— Не всегда, Нина, но я ничего больше не мог ожидать — я учитываю обстоятельства, ведь я и сам давно ожесточился и очерствел.
«Да, вот это, наверное, так», — подумала она, вспоминая его красивым юношей, кружившим головы ее подругам.
Однако ей в первые же дни стало ясно, что он хоть и не хотел признаться в этом, а был несколько уязвлен ее холодностью и теперь старался держаться как можно дальше, желая, по-видимому, показать, что не намерен докучать ей своей особой. Он ходил на вокзал грузить и носить вещи и покупал себе на вырученные деньги хлеб и брынзу. Зная, что он не может быть сыт, она несколько раз входила к нему, чтобы поставить перед ним тарелку с вареной треской или картофельным супом; два раза он принял это и поцеловал благодарно ее руку, пробормотав: «Я надеюсь, что в скором времени смогу отплатить за все…» Один раз отказался, говоря, что заработал на этот раз больше и сыт, но ни разу сам не вошел в ее комнату, когда она и Мика садились за свой, тоже скудный обед, ни разу не попросил даже стакана чаю. А с поступлением на работу оказалось не так просто, как думалось сначала. Олег владел свободно тремя иностранными языками — вот это и давало ему надежду получить место, так как после того разгрома, которому подверглись образованные люди за эти годы, владеющие языками, были наперечет и учреждения расхватывали их, отбивая друг у друга. И все-таки работа ускользала от Олега: в каждом учреждении его охотно соглашались принять, но как только дело доходило до неизбежных в то время анкет и автобиографий, картина менялась, начинали говорить: