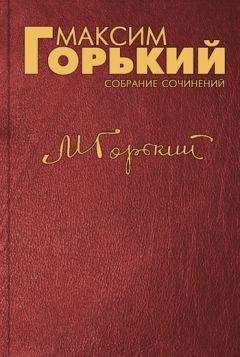Максим Горький - Жизнь Матвея Кожемякина
- Живо за столы, мизгирьё! - кричал солдат.
Матвею хотелось сказать, что он боится нищих и не сядет за стол с ними, противны они ему, но вместо этого он спросил Пушкаря:
- Что ты как толкаешь их?
- Они за толчком не гонятся...
- Они за нас бога молят...
- В кабаках больше...
Кожемякин спросил:
- Ты чего-нибудь боишься?
- Я?
Солдат потёр чисто выбритый подбородок и нерешительно ответил:
- Не знаю. Не приходилось мне думать об этом...
Тогда Матвей сказал о нищих то, что хотелось, но Пушкарь, наморщив лоб, ответил:
- Нет, ты перемогись! Обычай надо исполнить. Нехорошо?
Юноша съёжился, ему стало неловко перед солдатом и жаль сказанного.
Зашёл к Палаге, она была в памяти, только ноги у неё совсем отнялись.
- Некрасивая, чай, стала? - виновато спросила она.
- Красивая... ещё лучше...
За сутки она истаяла страшно: нос обострился, жёлтые щёки опали, обнажив широкие кости скул, тёмные губы нехорошо растянулись, приклеившись к зубам.
- Родимый, - шелестел её голос, - ах, останешься ты один круглым сиротиной на земле! Уж ты держись за Пушкарёва-то, Христа ради, - он хошь слободской, да свят человек! И не знаю лучше его... Ох, поговорить бы мне с ним про тебя... коротенькую минутку бы...
Он был рад предлогу уйти от неё и ушёл, сказав, что пришлёт солдата.
А послав его к Палаге, забрался в баню, влез там на полок, в тёмный угол, в сырой запах гниющего дерева и распаренного листа берёзы. Баню не топили всего с неделю времени, а пауки уже заткали серыми сетями всё окно, развесили петли свои по углам. Кожемякин смотрел на их работу и чувствовал, что его сердце так же крепко оплетено нитями немых дум.
Слышал, как Власьевна и Наталья звали его, слышал густое урчание многих голосов на дворе, оно напоминало ему жирные пятна в ушате с помоями. Хотелось выйти на пустырь, лечь в бурьян вверх лицом и смотреть на быстрый бег сизых туч, предвестниц осени, рождённых Ляховским болотом. Когда на дворе стало тихо и сгустившийся в бане сумрак возвестил приближение вечера, он слез с полка, вышел в сад и увидал Пушкаря, на скамье под яблоней: солдат, вытянув длинные ноги, упираясь руками в колени, громко икал, наклоня голову.
- Н-на, ты-таки сбежал от нищей-то братии! - заговорил он, прищурив глаза. - Пренебрёг? А Палага - меня не обманешь, нет! - не жилица, - забил её, бес... покойник! Он всё понимал, - как собака, примерно. Редкий он был! Он-то? Упокой, господи, душу эту! Главное ему, чтобы - баба! Я, брат, старый петух, завёл себе тоже курочку, а он - покажи! Показал. Раз, два и готово!
Матвей дотронулся до него и убедительно попросил:
- Давай, схороним её хорошенько, - без людей как-иибудь!
- Палагу? - воскликнул солдат, снова прищурив глаза. - Мы её само-лучше схороним! Рядышком с ним...
- Не надо бы рядом-то...
- Рядом! - орал солдат, очерчивая рукою широкий круг. - Пускай она его догонит на кругах загробных, вместе встанет с ним пред господом! Он ему задаст, красному бесу!..
- Не ругайся, нехорошо! - сказал Матвей.
Солдат посмотрел на него, покачал головой и пробормотал:
- Вя-вя-вя - вякают все, будто умные, а сами - дураки! Ну вас к бесам!
Пьянея всё более, он качался, и казалось, что вот сейчас ткнётся головой в землю и сломает свою тонкую шею. Но он вдруг легко и сразу поднял ноги, поглядел на них, засмеялся, положил на скамью и, вытянувшись, сказал:
Боле ничего...
"С ним жить мне!" - подумал юноша, оглядываясь.
К вечеру Палага лишилась памяти и на пятые сутки после похорон старика Кожемякина тихонько умерла.
Матвей уговорил солдата хоронить её без поминок. Пушкарь долго не соглашался на это, наконец уступил, послав в тюрьму три пуда мяса, три кренделей и триста яиц.
Зарыли её, как хотелось Матвею, далеко от могилы старого Кожемякина, в пустынном углу кладбища, около ограды, где густо росла жимолость, побегушка и тёмно-зелёный лопух. На девятый день Матвей сам выкосил вокруг могилы сорные травы, вырубил цепкие кусты и посадил на расчищенном месте пять молодых берёз: две в головах, за крестом, по одной с боков могилы и одну в ногах.
- Ну, брат, - говорил солдат Матвею ласково и строго, - вот и ты полный командир своей судьбы! Гляди в оба! Вот, примерно, новый дворник у нас, - эй, Шакир!
Откуда-то из-за угла степенно вышел молодой татарин, снял с головы подбитую лисьим мехом шапку, оскалил зубы и молча поклонился.
- Вот он, бес! - кричал солдат, одобрительно хлопая татарина по спине и повёртывая его перед хозяином, точно нового коня. - Литой. Чугунный. Ого-го!
Дворник ловко вертелся под его толчками, не сводя с Матвея серых, косо поставленных глаз, и посмеивался добродушным, умным смешком. В синей посконной рубахе ниже колен, белом фартуке, в чистых онучах и новых лаптях, в лиловой тюбетейке на круглой бритой голове, он вызывал впечатление чего-то нового, прочного и чистого. Его глаза смотрели серьёзно и весело, скуластое лицо красиво удлинялось тёмной рамой мягких волос, они росли от ушей к подбородку и соединялись на нём в курчавую, раздвоенную бороду, открывая твёрдо очерченные губы с подстриженными усами.
- Бульна хороша золдат! - говорил он, подмигивая на Пушкаря.
Матвей смущённо усмехался, не зная, что сказать. Но Шакир, видимо, поняв его смущение, протянул руку, говоря:
- Давай рука, хозяин! Будем довольна, ты - мине, я - тибяй...
И, вдруг облапив Пушкаря, поднял его на воздух и куда-то понёс, крича:
- Айда, абзей! Кажи - какой доска? Кажи шерхебель, всю хурда-мурда кажи своя!
Матвей засмеялся, легко вздохнул и пошёл в город.
При жизни отца он много думал о городе и, обижаясь, что его не пускают на улицу, представлял себе городскую жизнь полной каких-то тайных соблазнов и весёлых затей. И хотя отец внушил ему своё недоверчивое отношение к людям, но это чувство неглубоко легло в душу юноши и не ослабило его интереса к жизни города. Он ходил по улицам, зорко и дружественно наблюдая за всем, что ставила на пути его окуровская жизнь.
Бросилось в глаза, что в Окурове все живут не спеша, ходят вразвалку, вальяжно, при встречах останавливаются и подолгу, добродушно беседуют.
Выйдя из ворот, он видит: впереди, домов за десяток, на пустынной улице стоят две женщины, одна - с вёдрами воды на плечах, другая - с узлом подмышкой; поравнявшись с ними, он слышит их мирную беседу: баба с вёдрами, изгибая шею, переводит коромысло с плеча на плечо и, вздохнув, говорит:
- Вот уж опять - четверг.
- Бежит время-то, милая!
- Через день и тесто ставить...
- С чем печёшь?
- По времени-то с капустой надо, а либо с морковью, да мой-от не любит...
Они косятся на Кожемякина, и баба с узлом говорит:
- А сходи-ка ты, мать моя, ко Хряповым, у них, чу, бычка зарезали, не продадут ли тебе ливер. Больно я до пирогов с ливером охотница!
Баба с вёдрами, не сводя глаз с прохожего, отвечает медленно, думая как бы о другом о чём-то:
- Хряповы - они и детей родных продадут, люди беззаветные, а бычок-от у них чахлый был, оттого, видно, и прирезали...
Сдвинувшись ближе, они беседуют шёпотом, осенённые пёстрою гривою осенней листвы, поднявшейся над забором. С крыши скучно смотрит на них одним глазом толстая ворона; в пыли дорожной хозяйственно возятся куры; переваливаясь с боку на бок, лениво ходят жирные голуби и поглядывают в подворотни - не притаилась ли там кошка? Чувствуя, что речь идёт о нём, Матвей Кожемякин невольно ускоряет шаги и, дойдя до конца улицы, всё ещё видит женщин, - покачивая головами, они смотрят вслед ему.
Тихо плывёт воз сена, от него пахнет прелью; усталая лошадь идёт нога за ногу, голова её понуро опущена, умные глаза внимательно глядят на дорогу, густо засеянную говяжьими костями, яичной скорлупой, перьями лука и обрывками грязных тряпок.
Межколёсица щедро оплескана помоями, усеяна сорьём, тут валяются все остатки окуровской жизни, только клочья бумаги - редки, и когда ветер гонит по улице белый измятый листок, воробьи, галки и куры пугаются, - непривычен им этот куда-то бегущий, странный предмет. Идёт унылый пёс, из подворотни вылез другой, они не торопясь обнюхиваются, и один уходит дальше, а другой сел у ворот и, вздёрнув голову к небу, тихонько завыл.
На сизой каланче мотается фигура доглядчика в розовой рубахе без пояса, слышно, как он, позёвывая, мычит, а высоко в небе над каланчой реет коршун - падает на землю голодный клёкот. Звенят стрижи, в поле играет на свирели дурашливый пастух Никодим. В монастыре благовестят к вечерней службе - из ворот домов, согнувшись, выходят серые старушки, крестятся и, качаясь, идут вдоль заборов.
Кажется, что вся эта тихая жизнь нарисована на земле линючими, тающими красками и ещё недостаточно воодушевлена, не хочет двигаться решительно и быстро, не умеет смеяться, не знает никаких весёлых слов и не чувствует радости жить в прозрачном воздухе осени, под ясным небом, на земле, богато вышитой шёлковыми травами.