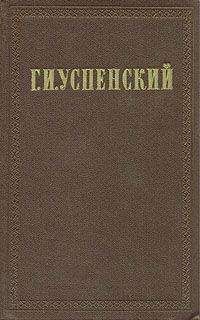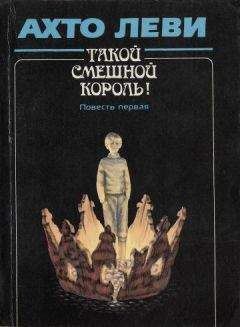Глеб Успенский - Новые времена, новые заботы
— И пожалуйста уж, — продолжал отец, — и ты-то не разжалобься! Ей-богу, ей-ей тебе говорю, ничего не надо… И не пойду я туда никогда… Я было уж совсем ото всего от этого отвык… Да и есть, что отвык уж. И трогать-то вас не мечтал… Тебя только иной раз поглядишь… Видывал я тебя-то!..
— И-и, матушки, что слез-то бывает! — проговорила Марья. — Как увидит где случаем — и плачет… Нажгут они его там, говорит: — пуще собаки сделают…
— Ну будет, Марья, эко нашла об чем…
— С чего ж не сказать? там уж и так, надо быть, напето ему про тебя..
— Уж да-алл-жно быть! — протянул сразу весь хор.
— Да и надобно, а как ты думаешь? — обратился к хору отец: — хвалить, что ли, меня надо?..
— Уж что за худое хвалить!
— А что уж, хотел все это оставить, прекратить, — продолжал отец прерванную речь свою, — вот и наказываюсь… Как же я могу в эвтакую жизнь хоть бы и сына родного сбивать? Мне-то она по сердцу, а другому и совсем не годится, — зачем? Другому-то, может, и каяться не в чем, так как же я его силком-то возьму?.. Так и отрезал. Не стану вам, мол, мешать — только и вы мне уж дайте хоть носледний конец жизни по совести пожить… И бога ради — и не хлопочите, и в уме не имей обо мне, — прибавил отец, опять обращаясь ко мне, — и даже, перед богом говорю, и вспомнить-то боюсь, ну-ка да опять в господскую шкуру попасть — и подумать-то об этом страшуся… Там — все мало, все недохват, все надо больше… Все забудешь, точно пустыня кругом тебя, — только и глядишь, нет ли где чего тебе подходящего… Я уж это знаю — о-ох, как знаю… маменька твоя — не в осуждение говорю: мне ли кого судить? а нельзя утаить — препугливая женщина… Есть, друг ты мой, этакие женщины, что окромя страха жить на белом свете — ничего у них нету: точно вот завтра гибнешь… Я помню, как я женился на матери-то на твоей; так что ж, братец ты мой? Чуть не на другой день после свадьбы ровно бы чего испугалась, ровно бы вот сделала грех какой! Страсть как пуглива была до жизни!.. Так ей все представлялось, словно бы среди лютых зверей живешь: раскрадут, растащат, разворуют, пустят по миру, обидят, подведут, и видимо-невидимо всего этого представлялось ей… веселого лица и в первый день-то не видал — перед богом! Кажется, так поглядеть — никакой беды нет нигде, и сама она видит, что нет, — так ведь такой характер пугливый, начнет за десять лет вперед убытки высчитывать, да так высчитает, что только сердце замрет, думаешь: ну, пропал… "Что ты за людьми не смотришь? вот у соседей сожгли хлеб, и у тебя подожгут; чем будешь жить, чем отдашь? — такой-то не подождет, имение отнимет, пустит по миру, куда денешься? Отец уж не даст, на тетку не рассчитывай…" То есть страсть что высчитывает… слушаешь, слушаешь, просто даже ощетинишься — думаешь: нет, проклятые, не дамся я вам в обман, и пойдешь обделывать дела! Там подряд схватишь, обдуешь (что уж церемониться), там что еще подвернется — уж не разбираешь! Сосед подвернется — соседа, мужик — мужика; со всех, что под руку попадет, цапаешь… потому — страсть! кроме страху жить на свете, ничего нет, — ну, и свирепствуешь… Такая уж была у ней душа пугливая: все на нее идет, идет ее обижать! Ну, молод был, жалко: нахватаешь на службах, на местах, на подрядах — успокоишь… Только чуть-чуть затихло, а уж в голове опять у нее начинается какая-нибудь новая страсть: гляди — уж на тридцать, а то и на сорок лет беду раскидывает вперед… И опять перепугаешься… А там устанешь, очнешься, думаешь: да за что ж это, господи? Зачем я народ-то обижаю? что я за зверь? И так станет скверно, так горько — и пустишь по ветру все, что натащил…
Сдержанный радостный смех слышался в толпе зрителей…
— Начнет душа-то оттаивать — и пошло! Ну уж тут… и вспоминать страшно! И слава тебе, царю небесному создателю, вразумил меня господь! Отшиб он у меня эту жадность, этот страх жить на белом свете… Чего мне надо? Вон поп мне за лечение подарил валенцы — вот мне и тепло всю зиму… Сейчас вот Мишутку азбуке выучил — вот у меня кошелка яиц — и сыт я… Чего мне? За что мне лютовать с белым светом? Из-за чего зверствовать?.. Что лучше: ударить пса палкой или хлеба ему дать?.. Господи батюшка! да изведи же меня из этого омута! Вот господь и помог мне… И ничего-то, ничего-то мне не надо… Ходи ко мне, погляди, как простые люди живут, — и ты ведь тож случаем в непростых-то, — а к себе не зови… нет, сохрани бог!.. Там сейчас ожесточишься… лапти сними — купи сапоги, шубу, съезди к тому-то… И-и-и пошло… Весь вывернешься, как змей, в одну неделю… Нет, нет, нет, нет… У меня вот тут ребятишки, больные… вот лечебник, я с ним добра сделаю много… У меня вот шляпа поярковая, коровьим составом я ее вымазал, запек в печи — она у меня на двести лет, а там, в ваших-то местах, отдай пять да десять… да неведомо сколько другого причиндалу потребуется хоть бы к одной к одёже… Не надо этого… Стыдно! Вот ребятишки иной раз листа бумаги ждут по полугоду, а я буду в лорнет смотреть?
Все захохотали…
— Нет, нет, — продолжал отец… — Я хочу просто. "Ожесточилося сердце ваше!" — вот что сказано в писании… И верно… Я знаю, что говорю. Я всю жадность эту перепробовал: дай волю — конца ей нет, этой жадности… а зачем?.. Нет, Митрофанушка, уж ты меня не выдай, не жалобься, не жалей… Право, мне хорошо… Думаешь — что бы доброго сделать… а ведь там это трудно!.. Одной зависти сколько… Да что… И вспоминать-то не хочется… Расскажи-ка ты, хорошо ли учишься-то?.. Чему учат-то вас? Марья? что же ты? авось самоварчик надо…
Марья точно проснулась вдруг, да и все точно очнулись.
— И что ж это я, матушки мои? — спохватилась Марья Андреевна и тотчас подняла суматоху с самоваром. Народ, понявший, что "самое любопытное" кончилось, понемногу отхлынул. Остались вместе только я с отцом, да Филипп, да парнишка лет тринадцати. Я что-то разговаривал про гимназию, меня слушали прилежно; но я видел, что меня не понимали и что все, что я говорю, вовсе тут не нужно и не интересно. Отец, как я понял, просто наслаждался тем, что видел меня, что слышал мой голос, но едва ли находил что-нибудь интересное в моих словах. Филипп, усевшись к столу и положив на него локти, только щурился и, наконец, не вытерпел:
— Эко наук-то у вас, в емназии… Что уж, на что так-то! Больно много… Право, ей-богу…
Отец только покрутил головой.
— Нет, — перебил он Филиппа: — у нас вот с Мишуткой всё недостатки… Вот теперича гражданской печати нужна книжка, а ее нету…
— Какую книгу вам надо? я привезу, — сказал я…
— Да какую-нибудь историческую, русскую бы историю, ежели есть… Нам из старых, если случится, мы не брезгуем… Ходил я в городе по книжным лавкам — руб да два — меньше нет, хоть ты вот что…
— Я вам привезу, каких хотите.
— Ты уж давай какие ненужные. А мы за тебя бога помолим с Мишуткой…
Мишутка, тринадцатилетний паренек, находившийся в этой же комнате, весь вспыхнул, даже вспотел от известия о книгах, которые я обещал прислать… А я почувствовал, глядя на эту радость, что-то сильное в сердце — вот я могу сделать так, что обрадую, осчастливлю… Скверным манером пробудилась во мне мысль быть полезным другим — а уж пробудилась, и за то я благодарю этого обрадовавшегося Мишутку.
— Азбучков, — продолжал между тем отец, — грифельков бы, ох, бы нам хорошо тоже… да где! Уж только бы мать не догадалась, избави бог — и так как-нибудь… Тут одна девчонка, Марфутка, семилетняя, ух, зла учиться-то! ну — бедность! Все углем учится на стене — вон посмотри…
Я поглядел: вся стена была измазана углем.
— Нету! — как-то беспомощно произнес отец: — что будешь делать!.. Бедность! И уголь-то еще дадут ли… Намедни вот Марья и то закричала на нее: "что ты тут все таскаешь? не напасешься"… Вот как у нас насчет этого…
Отец засмеялся. Я был удивлен…
— Иде ж взять-то!.. Мать-то, чай, сама по миру ходит? — предположил Филипп.
— А то что ж? о каких тут грифелях думать?.. Что у меня есть — даю, а уж чего нет — ну, не взыщи… Вот священных историй тоже беспременно бы надо…
— Я привезу непременно, — сказал я, чувствуя, что меня с каждой минутой захватывает жажда помогать и делать что-нибудь доброе в деле, совершенно для меня чужом; этого до сих пор я еще не испытывал и потому так же радостно вспотел от нового ощущения, как и Мишутка.
— Ох, — сказал отец, вздохнув: — много, много надо… И ничего-то нет… Ну, зато уж, — вдруг необыкновенно радостно воскликнул он: — уж и разжился я штучкой одной… Погляди-кось, какая штука-то!
Он проворно вскочил с лавки, еще проворнее побежал к кровати, вытащил оттуда сундучок, долго рылся в нем и вытащил, наконец, что-то в бумаге.
— Вот! — сказал он с торжеством.
Бережно развертывал он бумагу; все столпились вокруг отца и с величайшим любопытством смотрели — что там будет; в бумаге оказалась завернутая машинка чинить перья, штука для меня очень простая, давно знакомая; но не так смотрели на нее все другие зрители, начиная с отца. Когда он рассказывал, как надо эту машинку употреблять; когда он показал, как скоро она чинит, — неподдельный и неописуемый восторг охватил всех.