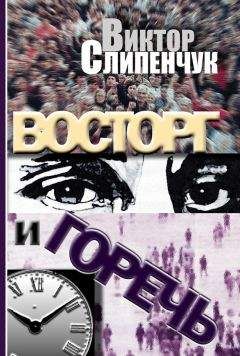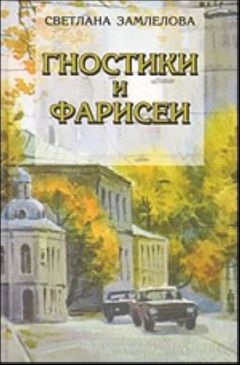Виктор Слипенчук - Зинзивер
- Ты не думай, Зорька... внутри себя я уже большой и все-все понимаю. Этим летом я скажу маме, что буду пасти тебя, пока не пойду в школу.
Я рассказывал Зорьке, что буду пасти ее за речкой, где растет большая трава, а в обед, в самую жару, она будет стоять в воде, на третьей ямке под ивовым кустом, где меньше всего назойливых мух и слепней.
В полумраке Зорькины рога матово лоснились, а белый курчавистый волос на лбу, взблескивая, искрился от моего прикосновения. Зорька потянулась ко мне, прямо к моему лицу, и я увидел, что глаза ее блестят, а из глаз текут обильные слезы. Она опять шумно вздохнула, опахнув каким-то домашним-домашним дыханием, после которого я вновь почувствовал себя не то чтобы маленьким, но и не таким уж большим.
Когда вышел из сарая, Джек меня преданно ждал. Он сразу увидел и пирожок в кармане, и кусочек в руке, и что не такой уж я маленький, как показалось Зорьке. Он увидел меня точно таким, каким я хотел, чтобы меня видели все, а в особенности клюкастая старуха Коржиха.
- Какой ты умный, - сказал я Джеку и дал ему кусочек пирожка, и погладил его, и вместе с ним порадовался его сметливости, когда, ласкаясь, он шустро тыкал носом как раз в тот карман, в котором лежал пирожок.
Я сел на ступеньку крыльца, а Джек - на деревянный помост. Пестрый, с черно-белыми разводами на ушах, топорщащихся и на кончиках как будто сломанных, он смотрел на меня с той преданностью и вниманием, словно мы уже условились есть пирожок вместе.
- Нет-нет, у нас не было никаких уговоров, - возмутился я и отвернулся (стал смотреть на заходящее солнце).
Розовые лучи скользили поверх плетня, а стеклянные банки, насаженные на колышки, горели изнутри так ярко, словно они были электрическими лампочками. Пространство улицы за колхозной водокачкой раздвинулось, и темные скирды сена теперь представлялись стадом слонов, спускающихся к водопою. Вокруг было столько простора, уходящего в небо, а в небе - причудливых облаков, как будто касающихся земли, что я невольно вспомнил город с гирляндами разноцветных шаров, красных флагов и белых голубей, так плотно взмывавших ввысь, что иногда казалось, что это взмывает весь праздничный город.
- Миру - мир! - восторженно крикнул я, встав во весь рост.
Сердце трепыхнулось, но прежде, чем почувствовал, что лечу, я увидел Джека, который, жалобно взвизгнув, подпрыгнул, чтобы лететь вместе. И я не полетел, я не мог оставить Джека.
Я спрыгнул со ступеньки и, обхватив его за шею, кружился с ним. Потом опять сидел на ступеньке, и по кусочку отламывал от пирожка, и давал Джеку, и ел сам, облизывая желтое повидло, которое выползало между пальцев.
- Такого вкусного пирожка больше ни у кого нет, - говорил я Джеку. Тетя врач дала нам его для нашего праздника.
Сказал о празднике и едва не задохнулся от догадки. И чтобы уже развеять все свои сомнения, забежал по ступенькам на крыльцо, повернулся лицом прямо к солнцу и словно бы вновь очутился на празднике, среди громыхающих радиоколоколов, бравурной музыки, смеха и песен.
- Миру - мир, мир - миру, - сказал я громко и отчетливо, как будто прочитал по букварю.
Сердце знакомо трепыхнулось, но я не стал хвататься за Джека, который терся о мои колени, я точно знал, что не упаду в обморок: ни сейчас, ни после - никогда. Я был уверен, что подрос и болезнь отстала от меня.
С того дня я действительно больше не падал в обмороки и из носа у меня не текла кровь. Конечно, я мог бы не вспоминать тот праздничный день, но именно тогда в меня вошло убеждение, что силой воображения можно одолеть любую болезнь, и не только болезнь...
ГЛАВА 11
В ночь на субботу впервые приснилось, будто я в отдельном кабинете за белоснежным столиком и официант подносит мне щи, дымящуюся баранину с зеленой петрушкой и кофе со сливками. Глотая слюну, всячески старался показать официанту, что не голоден, просто пришло время отобедать. Уяснив, что обед для меня своеобразный и мало что значащий ритуал, официант испросил разрешения отдать обед какому-то голодающему поэту, который якобы стоит в ожидании за портьерой. Я откуда-то знал, что голодающий поэт - это я, Митя Слезкин, поэтому преувеличенно небрежно, мановением руки, разрешил унести поднос с обедом. Я предполагал, что раз я - я, то за портьерой никого нет и обед вернется ко мне.
Официант отодвинул портьеру, и, к своему ужасу, я увидел себя в уже известной крылатке из байкового одеяла с тремя поперечными полосами по плечам. Это было до того неожиданно, особенно униженность, с какою Митя Слезкин протягивал руки к обеду.
Официант испуганно оглянулся, очевидно, узнал меня, и в ту же секунду, в предчувствии грязного скандала из-за тарелки щей, я проснулся.
Проснувшись, некоторое время испытывал чувство стыда, потом сожаления и, наконец, голода. Поощренное спазмами в животе, воображение до того разыгралось, что в конце концов я уже не мог думать ни о чем. И как был налегке, так налегке и припустил к продуктовому магазину.
Я бежал в застиранных трусах и майке, с пачкой "рваных" за пазухой. Каждая клеточка во мне вопияще кричала: е-есть, е-есть! Однако всем своим видом я старался убедить встречных прохожих, что этот мой бег - обычный утренний моцион трусцой. Наверное, я бежал слишком резво и чересчур целеустремленно. Вослед мне отпускались шуточки, наподобие - "Эй, комик, штаны забыл - догоняют!..".
Конечно, я не учел, что для утреннего моциона проснулся слишком поздно. В магазине никто не захотел даже отдаленно признать во мне физкультурника-одиночку. Как-то враз все единодушно решили, что я бесстыжая морда и нахал. Возмущенные покупатели, пожертвовав очередью, буквально вынесли меня из магазина. Я чуть не заплакал от досады. Слава Богу, всегда закрытый ларек на автобусной остановке торговал, и мне удалось взять две пачки печенья и баночку трески в томатном соусе, которая продавалась в нагрузку к печенью.
Первую пачку печенья съел сразу, у ларька. То есть - когда съел и как? - не заметил. Даже маленько порылся в пакете - неужто все?! Вторую ел не торопясь, контролировал свои действия. Нарочно подошел к доске для вывешивания свежих газет и вроде бы, увлекшись чтением, по рассеянности хрумкал. На самом деле я кончиками пальцев на ощупь читал удивительно вкусное слово, придуманное мукомольной промышленностью СССР, - "Привет!". Привет! - мысленно отзывался каждой печенюшке и, только покончив с ними, удосужился прочесть: ""Н... комсомолец", 20 августа..." "Надо позвонить в "Союзпечать", поинтересоваться, почему на нашей автобусной остановке свежие газеты вывешиваются от случая к случаю?" - подумалось как бы между прочим, и в ту же секунду позабыл и о голоде, и о своем неудачном виде физкультурника, и вообще обо всем.
На первой полосе, чуть ниже заметки о комсомольско-молодежной бригаде пригородного совхоза "Узбекистан" "Кто заменит тетю Глашу?", смотрела на меня до боли знакомая фотография улыбающейся старшеклассницы, пускающей мыльные пузыри. А рядом - напечатанное лесенкой мое стихотворение "Ангелы любви", которое было переименовано в "У Лебединого озера" и посвящалось Розе Пурпуровой. (Посвящение озадачило, я не знал - радоваться мне или негодовать? Дело в том, что девичья фамилия Розочки - Пурпурик.)
В строке "И - поверил в мечтания, их сокровенность тая..." неожиданно обнаружил лишнее слово, вставленное с неизвестной целью: "И честно - поверил в мечтания..." Господи, какое убожество: если можно "честно" поверить в мечтания, то не возбраняется и "нечестно". Интересно - каким образом, пусть объяснят, мысленно возмущался я, подразумевая под "они" не столько Васю Кружкина, сколько корреспондентов отдела комсомольской жизни. Безусловно, и по посвящению прошлась их рука (Розочка иногда звонила в бухгалтерию редакции и представлялась под девичьей фамилией). Воровски сняв газету, я действительно трусцой вернулся в общежитие. (Кстати, на этот раз встречные прохожие не обращали на меня никакого внимания.) Тщательно изучив публикацию и вообще всю первую полосу (фотоэтюд и стихотворение, очерченные одной линией, визуально воспринимались как единый материал), пришел к выводу, что стихотворение подано со вкусом, а вместе со старшеклассницей и достаточно броско - не затерялось среди газетных информашек. К новому названию постепенно привык - Васина работа. Судя по заголовку "Кто заменит тетю Глашу?", он не поскупился, достал самые сокровенные сбережения, можно сказать, пустил в ход весь свой золотой запас. Наверняка в расчете, что, как некогда "в верхах" заметили его "дядю Гришу", теперь, с "тетей Глашей", заметят и его новаторскую полосу... "Да, Еврейчик-Вася кому хошь даст сто очков вперед", - радовался я за него, надеясь, что и мое стихотворение не будет обойдено... и, если газета попадется Розочке, она непременно прочтет его. А прочитав, простит меня, вернется домой, в общежитие. Словом, "честно поверил в мечтания, их сокровенность тая...", что произойдет именно то, чего я и хотел добиться публикацией.