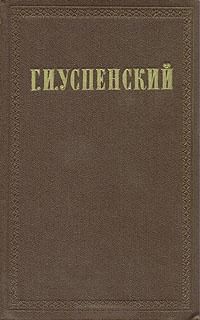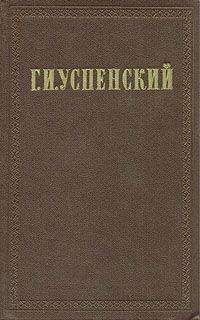Константин Паустовский - Блистающие облака
Батурин пристально посмотрел на Лойбу и решил от него отвязаться, но это оказалось делом трудным. Лойба попадался всюду и тотчас же, подняв косматые брови, начинал врать об австрийском посольстве и жаловаться на дикость туземцев.
Батурину наконец стало казаться, что никакого Пиррисона нет, как нет и Нелидовой, что вся эта история выдумана. Он пал духом, изощрялся в придумывании невероятных планов, как найти Пиррисона, но при осуществлении их упирался в единственный выход - расспросы. Это было скучно и походило на лотерею, - человек, который смог бы сказать, где Пиррисон и Нелидова, представлялся недосягаемым, как выигрыш в сто тысяч. Искать такого человека было бессмысленно. Поэтому Батурин избрал легчайший путь - ждать счастливой случайности.
Бердянск тускло поблескивал черепичными крышами и морем. Временами дул горячий ветер с юга. Батурин любил такие дни, потому что был уверен, что ветер дует из Африки.
Цвет дня был мутный, и безоблачное небо становилось сизым, как в грозу. Неизмеримая жара повисла в воздухе, опаленном ветром.
В один из таких дней Батурин, сидя в столовой, набросал на меню несколько фраз, -он хотел передать настроение этих ветровых дней. Перечитывая написанное, он сказал себе - "постой, постой!" - и улыбнулся. Фразы были крепкие, звучали сжато, беспощадно, как дни, о которых он писал.
- Есть! - сказал Батурин.- Мозги проветрены. Теперь пора.
С этого дня он, пока только для себя, стал писателем. Не имея представления о сложности сюжетов, архитектуре повестей, умолчаниях, торможениях повествования, он чувствовал тяжесть от обилия образов. Они были еще далеки от нужной четкости, мутны, как цвет ветреных дней. Но они пенились и подымались, разбрызгивая тончайшие капли влаги.
Он ждал. Это ожидание было похоже на горные хребты в тумане. То там, то тут просвечивает розовый лед, и с дрожью, предчувствуя необычайное зрелище, ждешь, когда туман растает и блеск снежной весны над глетчерами откроется в своем блистающем молчании.
- Как хорошо! - повторил Батурин.
Казалось, мир залит жгучим светом, и вещи раскрыли свою вторую сущность - более глубокую, сложную, чем та, среди которой он жил до тех пор.
Это состояние напоминало бред, влюбленность. В каждой будничной вещи были скрыты волнующиеся, как море, легенды.
Батурин стал понимать, как коротка жизнь. Он казался себе мальчишкой, который хочет остановить руками водопад, - исполинский поток света, влаги, спектральных лучей,- и плачет от бессилья. Едва Батурин пытался закрепить один образ, как новый, еще более томительный, ускользающий, рождался в мозгу. Были тончайшие вещи, что никак не укладывались на бумагу.
Скорей, скорей! - вот единственное чувство, которое в те дни испытывал Батурин. Письма капитана лежали нераспечатанными.
Батурин казался себе похожим на рыбу-глистовку. Ее он часто видел в порту. Она выскакивала из воды, будто хотела лететь, падала на бок, быстро кружилась, опять выскакивала, кружилась и издыхала. Это была болезнь. Попытки рыбы летать напоминали Батурину его бессилие, когда он сталкивался с немощью родного языка.
Лойбу он как-то прогнал в столовой, сказав ему:
"Уйдите, вы мне мешаете", - и не заметил, как тот подошел к хозяину, покрутил пальцем около лба и злобно прошептал:
- Психопат! У него, знаете, полное смешение мыслей.
Для того чтобы писать, Батурину чего-то не хватало. Он думал, искал. Ему казалось порой, что нужна музыка - ее благородный пафос и необъятный разлив развязанных звуков, но потом решил: нет, не то. Подъем сменяла тяжелая усталость. Невольно в голову лезли мысли, что он разбудил черта, непонятную болезнь, и выздоровления от нее не будет.
"Пропал",- думал Батурин и холодел от возбуждения.
В таком состоянии он вернулся однажды в сумерки домой. Игнатовна подача ему записку.
- Ну, дал бог счастья,- затараторила она.- Сестра ваша нашлась, сегодня приходила, час назад. Вот эту записку вам оставила. Вы ее тукаете, а она вас. "Приехала, говорит, за ним вдогонку, узнала, что он в Бердянске".
Батурин прошел к себе, стал у окна и развернул записку. Она была от Вали.
"Не пугайтесь,- писала она,- приехала в Бердянск на несколько дней, боялась, что вас не застану. Через час приду".
Батурин бросился на улицу искать ее. Он пошел к порту.
В каменном, пустом переулке он увидел Валю,- она быстро шла впереди. В прорезе между домами виднелось темное вечернее море и огни парохода.
Батурин остановился. Мысль о широкой, волнующейся, как море, легенде вспыхнула детским восторгом.
- Валя! - крикнул он и прислонился к решетке сухого сада.
Она обернулась, рванулась к нему, протянула руки. Батурин сжал их, посмотрел в ее глаза и понял, что не хватало ему вот этого страшного и чистого начала, этой женской, еще не разгаданной сущности, что была в ее темных и сверкающих зрачках.
- Не сердитесь? - спросила она, всматриваясь в его лицо, будто стараясь запомнить его навсегда.- Видите, какая я прилипчивая, не даю вам покоя.
Батурин закрыл ее ладонями свои глаза, как делают маленькие дети, и ничего не ответил. Валя спросила чуть слышно, одними губами:
- Ну что, что, что, мальчик мой милый?
Волнение его могло окончиться освежающими слезами, но резким напряжением он сдержал себя. В его волнении вдруг появилась неясная мысль,что-то было связано с этими словами "мальчик мой милый". Во сне ли, в памяти ли детских лет, когда была жива его мать, но где-то он слышал эти слова.
Они прошли на набережную, серую от ночного света. Это был отблеск воды, звезд; возможно, горячий ветер тоже излучал неясный свет.
Валя села на чугунный, ржавый причал. Батурин опустился на теплые камни у ее ног. Она говорила, наклоняясь к нему, не отпуская его руку. Терпко пахла колючая трава; ржавый подъемный кран, казалось, слушал голос Вали. У каменной лестницы качались, кланяясь морю, старые шлюпки.
- Теперь все, все долой,- говорила Валя.- У меня нет ничего позади - ни отца, ни ребенка, ни асфальта. Я новая. Вы слышите меня? Вы должны знать, как это случилось. Я два раза была больна, два раза травилась,- всё спасали. Я думала - зря спасают, все равно свое сделаю, а теперь я готова ноги целовать тем, кто меня спас. Доктор такой рыжий, мрачный и такой милый, из "Скорой помощи", он мне сказал: "Если не себе, так другим пригодитесь",- а я его выругала за это так скверно...
Валя замолчала. Батурин осторожно тронул ее холодные ногти.
- Ну, говорите же!
- Я...- Валя вздрогнула.- Я... дочь врача, я училась в гимназии. Отец бежал от голода на юг, в Ростов, взял меня. У меня тогда уже был, у девчонки, ребенок. Мальчик... ему было полтора года, он еще не умел говорить. В Ростове мы прожили долго. Было плохо, трудно. Но я не хотела дальше никуда ехать, а потом отец заболел сыпняком. Через неделю мальчик заболел скарлатиной, и положили их обоих в один госпиталь на Таганрогском проспекте. Там лежали солдаты, детей почти не было. Я жила в палате, где был мальчик. Спала на полу, вся во вшах. Если бы вы слышали, как он плакал по ночам, маленький, у вас бы разорвалось сердце. А кругом матерщина, канонада,- красные подходили к городу,- кому он нужен был, мальчишка, кроме меня. Даже врачи его не смотрели.
Валя взяла Батурина за подбородок, подняла его голову. Он снизу смотрел в ее лицо. Она плакала не скрываясь, не сдерживаясь; слезы капали на его волосы.
- Ну скажите, зачем это? - тихо спросила она.- Зачем пропал маленький? Вы один поймете, как мне было горько.
Потом началась эвакуация, больных стали вывозить. Некоторые шли сами, падали с лестниц, разбивались. Я бросилась в город, упросила хозяйку пустить мальчика: тогда скарлатины и сыпняка боялись хуже чумы. Не знаю почему, но она согласилась, - уж очень, должно быть, я была страшная. Я побежала в госпиталь, сказала отцу, что возьму мальчика, а потом его. Отец щелкал зубами, молил: "Валя, скорей! Валя, скорей! Врачи уже бежали, нас здесь перебьют. Военный ведь лазарет". Тогда думали, что в лазаретах всех рубят шашками. В палатах совсем пусто, лежат только одинокие, у кого никого нет, зовут. Некоторые ползли к дверям. Один, помню, радовался, что за час прополз через две палаты. А куда ползут - неизвестно.
Я разыскала санитара. Василий, был такой санитар. Прошу перенести отца, а сама не знаю куда,- мысли путаются. Он согласился. "Пойдем, говорит, тут через два квартала я живу, у меня носилки, захватим. Вы мне поможете его вытащить, а на улице кто-нибудь найдется". Я пошла. Уже снаряды рвались; я даже не слышала, только видела,- казалось, не ярче, чем вспыхивает спичка. Он привел меня в комнату, не помню даже куда. Стоят носилки. Я схватила их, а он остановил меня и спрашивает: "А плата?"
Я взглянула на него, похолодела, молчу. Вдруг вспомнила. Ведь в госпитале я видела носилки. Он позвал какого-то парня, показал на меня, говорит: "Денег у ней нет. Придется нам взять с нее плату натурой".