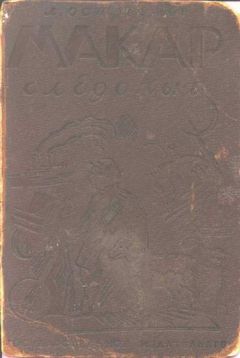Пантелеймон Романов - Русь (Часть 2)
А недели через две кто-то из мужиков, проходя мимо того места, где была беседка, и наткнувшись глазами на пустое место, только посвистал, сказавши:
- Ну, не воры, сукины дети? Все дочиста! Ни сориночки.
Хозяин иногда видел, как Захар Алексеич, согнувшись, тащил на спине бревно или волок доску, подхватив один конец ее под мышку и чертя другим по дороге. Хозяин все это видел и в первый момент чувствовал возмущение при мысли, что его обирают словно покойника. Но потом он давил в себе порыв негодования и говорил себе, что не стоит связываться, так как все равно через неделю это будет для него далеким прошлым. И у него от одного бревна не убудет.
По саду то и дело шлялись телята, спутанные лошади, ребятишки без шапок; выгоревшие на солнце головы их виднелись, притулившись где-нибудь в бурьяне, около кустов смородины или крыжовника. На лугу тоже постоянно виднелись мужицкие лошади, коровы, которые забирались туда, как к себе домой.
Дело, конечно, было не в убытках, - потому что не нынче-завтра поедут к Владимиру, продадут имение и через несколько дней будут на Урале, - дело было в принципе, в том, чтобы дать почувствовать, что они имеют дело не с пустым местом, а с Дмитрием Ильичом Воейко-вым, и что он, пока жив и никуда еще не уехал, ни одному человеку не позволит каким бы то ни было образом... Но не хотелось связываться и заводить целую историю. И потому он в этих случаях просто отходил от окна, чтобы не видеть, как его живьем растаскивают, и не портить себе настроения.
Иногда кто-нибудь из мужиков приходил по-соседски побеседовать, сидя на нижней ступеньке крыльца и покуривая трубочку. И обыкновенно, - ответив на обычные вопросы помещика о том, какое будет лето, не ожидается ли продолжительной засухи в виду большой жары, какая будет осень, - пришедший, как бы стороной, заводил речь о том, что у него ось сломалась, а достать негде. И хозяин, под влиянием удачно прошедшего разговора, выявившего общность их интересов и легкость общения, говорил с готовностью:
- Пойди возьми на дворе у Митрофана, скажи, что я велел дать.
- Что вы, господь с вами, нешто можно, - вскрикивал мужичок, испуганно замахав рука-ми, - самим нужна, глядишь, будет. Небось и так уж нету, поди разворовали все, окаянные. Ведь это какой народ.
- А если нет лишней, скажи, чтобы снял с телеги, - говорил помещик, чувствуя возбуж-дение от своего бескорыстия и от потрясенного вида мужика. И повторял еще раз: - Пойди, пойди, ничего, - я привык с вами жить как с своими близкими людьми.
- Господи батюшка, а мы-то!.. Да ты нам все равно, что отец родной.
- Ну вот, я и рад, - говорил хозяин, чувствуя даже мурашки и холодок по спине от чувст-ва умиленного волнения перед своим хорошим отношением. - У меня всегда так, если есть - бери. Конечно, когда иные поступают нахально, тогда... с ними у меня другой разговор...
- Таким прямо голову отвернуть стоит. Им, сукиным детям, только дай волю.
- А когда со мной хороши, тогда для меня большего удовольствия нет, как поговорить с вами просто, по душам. Я помещиков не люблю и с вами чувствую себя гораздо лучше. У меня больше общего с вами, чем с ними.
Почему он говорил это, он сам не знал. Говорилось само, против воли, под влиянием охва-тившего его чувства внезапной дружбы и любви, благодаря чему хотелось даже отгородиться в глазах мужичка от своего сословия, наговорить в нем чего-нибудь плохого и перейти всей душой на сторону мужиков.
- Вот ты необразованный, грамоты не знаешь, а у тебя ясный взгляд на жизнь, и ты не будешь сок жать из своего брата, потому что тебе понятны и близки интересы трудящихся. А помещики ведь какие есть - он готов ободрать первого попавшегося.
- Это как есть...
- Ни к какой работе они не привыкли, только на вашей шее сидят... А заставь их самих работать да погнуть спину, так вот, как вы гнете, так они и пропадут, как черви капустные. Ни за что не выдержат.
- Нипочем... это что и говорить...
- Иной хоть хорошо относится, потому что чувствует, что не по правде землей владеет, а другой, вот не хуже Щербакова...
- Не дай бог...
- Вот поэтому всегда ближе к народу, чем к своему брату держался, говорил в волнении помещик.
- Вы - одно слово... таких поискать. Ну, так я пойду, посмотрю насчет оси-то, - говорил проситель. И уходил к сараю.
Если же под руку подвертывалось что-нибудь и кроме оси, он, подумав, откидывал и это, рассуждая, что если барин с телеги готов снять и последнее отдать, так то, что без дела валяется, он и подавно отдал бы.
Благодаря этому не только повычистили, что было на дворе, но и повыкопали прививки в саду, которые все равно бы не принялись у них и погибли, так как в июне дерево не принима-ется.
Хозяин, однажды увидев в саду одного из мужиков, орудовавшего лопатой около прививка, вспылил и хотел было налететь ураганом на бессовестного нарушителя его прав, но узнал знако-мого мужичка, который всего два дня назад был у него, и они говорили по душам. Показалось неловко поймать его за нехорошим делом, и Митенька свернул в кусты, осторожно пригнув-шись, пробрался к калитке и ушел в дом.
- Не стоит связываться. Все равно уезжать...
XXIII
С одной стороны, Дмитрий Ильич был доволен тем, что отъезд на Урал отсрочился на несколько дней. Теперь он мог побывать там, куда его тянуло: у Ольги Петровны и у Ирины.
Но, с другой стороны, он чувствовал невыносимое томление от пустоты внешней и внутре-нней. В самом деле: во внешней жизни - разгром, от нее камня на камне не осталось, а во внутренней нового ничего еще не было. Вероятно, это новое придет тогда, когда переменятся внешние условия, т. е. окружающая его обстановка, - с развалинами на первом плане, - заменится девственными лесами первобытного края.
Он испытывал такое состояние, какое бывает, когда приходится при пересадке ждать очень долго поезда на маленькой станции: от дома оторвался и до места еще не доехал.
Образовался промежуток пустоты между старым и новым. А Дмитрий Ильич не мог жить без постоянного высшего горения, без новых идей, роковых общечеловеческих вопросов, кото-рые он всегда переживал так остро и живо, как что-то, касающееся непосредственно его самого. Это переживание было его делом. И он сейчас оставался без дела.
Вообще освобождение от старого давалось Дмитрию Ильичу много легче, чем созидание нового. Крылись ли причины этого в свойствах его характера или в чем другом, - было неизве-стно. Но когда он даже бегло подсчитывал то, что он разрушил в своей жизни, то суммы этого разрушенного могло бы хватить на несколько поколений.
Созданного было сравнительно мало. А если прикладывать к этому созданному мерку пресловутых реальных результатов, так и совсем - ничего. Поэтому, оставшись теперь наедине со своим внутренним содержанием, он чувствовал, что повис в воздухе. С тщетной надеждой оглядывался он на свой пройденный путь, не завалялось ли в каком-нибудь уголке что-нибудь из старья, оставшегося неразрушенным по недосмотру, чтобы заняться им теперь, на перепутье. Но не было уже ничего. Все было разрушено и разметано не хуже построек на дворе. Все ветхие одежды были сброшены. А так как он все время только и делал, что сбрасывал одежды, то вполне естественно, что ему совершенно не было времени думать, во что одеться.
Идти дальше было некуда.
Вернуться назад к наивной вере предков и успокоиться в ней он тоже не мог.
Начинать искать что-нибудь положительное, - которое подвело его тем, что не пришло само на расчищенное место, - уже не было сил. Да и не стоило, ввиду скорого переселения на Урал. И потом никакое положительное, т. е. созидание, не могло дать той силы ощущения, которую давало разрушение, когда одним взмахом ниспровергались тысячелетние святыни без всякого затруднения и хлопот.
Оставалось теперь разрушить последнюю свою веру - в народ, что он, собственно, уже и сделал, подав на него жалобу.
Дмитрий Ильич испытывал невыносимое томление. Из домашних дел ни на что не подни-мались руки, все по той же причине, что скоро уезжать. Приходилось жить в грязи, в беспо-рядке.
И вот теперь, вместо прежнего выброшенного содержания, явилось во всей силе то, что когда-то было под строжайшим запретом: женщины.
XXIV
Женщины - это был самый сильный яд, отравлявший в юности душу Мити Воейкова. Именно потому, что женщины по его канону относились к запретной области. О них он даже не имел права думать, как человек общественного подвига и как человек высшей ступени сознания.
Теперь же, когда он в один день стряхнул с себя ветхие одежды всяких высших повиннос-тей, доступ к источнику сладкого соблазна был открыт.
Если прежде он боялся, как греха и измены себе, подойти даже к той женщине, которая его особенно влекла к себе, то теперь он, не сопротивляясь, шел навстречу каждой женщине, едва только видел, что она остановила на нем внимательный взгляд. И, точно вознаграждая себя за потерянное время юности, боялся пропустить каждый случай, хотя бы у него не было в данный момент никакого влечения; в этом случае он надеялся, что, может быть, они явятся потом.