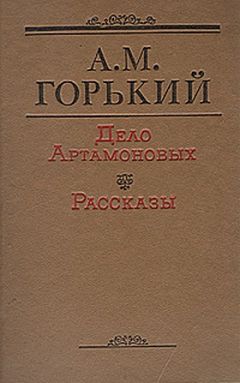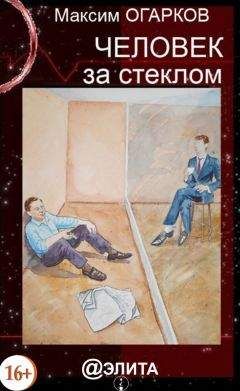Максим Горький - Том 16. Рассказы, повести 1922-1925
— Уп-уп-уп…
— Гений независим от народа, — говорил он. — Величайший гений наш — Пушкин — был потомком араба. Жуковский — полутурок. Лермонтов — шотландец, — так! Вы — понимаете? Гений — вне нации, он выше нации, всегда выше! В каждой стране вы найдёте вождей чужой крови. Безразлично, кто одухотворяет народ и ведёт его за собою: еврей Христос или грек Платон, индус или китаец Лао-Дзе. Руссо, Толстой — одного духа и, в сущности, одного языка. Герои, вожди — племя личностей, не имеющих почти ничего общего с массами…
Я чувствовал в его словах какую-то правду и чувствовал, что она меня обязывает к чему-то, это неприятно волновало меня.
— Человек и люди — не одно и то же, нет, — слышал я. — Человек — враг действительности, утверждаемой людями, вот почему он всегда ненавистен людям. История — это вражда одного против множества, вражда, разжигаемая в народе — любовью к покою, в человеке — страстью к деянию. История всегда поэтому будет исполнена жестокости и не может, не может быть иной. Так.
Провожая меня, он шептал:
— Не верьте социалистам, их учение опасно, насквозь пропитано ложью, это учение — против человека, — понимаете? Не верьте.
И ещё долго говорил он о социалистах что-то пугающее, чего я, утомлённый, уже не понимал. Помню его лёгкую, но цепкую руку на плече моём, дрожь его пальцев и чёрный блеск за стёклами очков — всё это было неприятно мне.
Разумеется, я упростил его мысли, вероятно, сделал их грубее, — мне было семнадцать лет, когда я услышал впервые эти мысли, незнакомые мне. Идя домой безмолвными улицами, я чувствовал, что мне по-новому жутко. До этого вечера жизнь была проще для меня. Я ведь не ощущал в себе ничего героического, никогда не мечтал о роли борца с кем-то или с чем-то за что-то. Я был обыкновеннейший парень, среднего роста, полный, избалованный матерью, мать очень заботилась о моём здоровье и заразила меня почти болезненной мнительностью. Мне нравилось лежать на диване с книгой в руках, удивляться ловкости или храбрости героев, ощущать моё различие от преступников, приятно было жалеть несчастных и радоваться, когда судьба, затейливо помучив, улыбалась им. Интересно было узнавать, что существуют люди, которым нравятся тревоги и опасности жизни, люди, которым приятно заботиться о счастье ближних, но — лично мне эти люди были не нужны.
Новак и Карлейль были тоже совершенно не нужны мне. Дома, лёжа в постели, я угнетённо думал: какое мне дело до героев и народов? Я был уверен, что могу прожить, не соприкасаясь с ними, ведь жили же в городе, вокруг меня, десятки тысяч людей, которым незнакома и не нужна философия Карлейля, не нужны герои, вожди, социализм и всё, что так нелепо волнует Новака.
Мне было даже немного смешно вспоминать его тревожные слова о социалистах, — я знал, что в седьмом классе гимназии есть несколько заносчивых и надутых парней, которые считали себя социалистами. Почему-то мне особенно не нравилось, что во главе их стоял сын уездного предводителя дворянства Болотов, парень дерзкий и назойливый. Он был героем гимназии: вытащил из реки утопавшую бабу, кажется пьяную, и поэтому ходил походкой матроса, широко расставляя ноги, насвистывал и плевал сквозь зубы.
Был и в моём классе герой — Рудомётов, сын судебного следователя, красавец, силач и пьяница. О его распутстве сложились среди учеников легенды; его боялись, ему завидовали, а он смотрел на всех прищуренными глазами, с пренебрежением необыкновенного человека и, отвечая учителям, ворчал что-то поистине необыкновенное, над чем единодушно хохотали не только ученики, но иногда и сами учителя. Только Новак не смеялся, он вполголоса говорил:
— Так. Ну, это вы придумали для того, чтоб смешить людей. Я ставлю вам двойку.
Мне нравилось независимое отношение Рудомётова к учителям, и я завидовал его уменью говорить какие-то особенные слова, они вклеивались мне в память. Однажды, на уроке Жданова, он сказал:
— Я предпочитаю кривые линии, они кажутся мне живыми, способными к самостоятельному движению, тогда как прямые безнадежно мертвы.
Над этими словами тоже хохотали.
Жданов восхищался им и кричал:
— У вас хорошая башка, но вы проклятый лентяй, преступник вы.
Думая о словах Новака, я вспомнил всех «героев» гимназии, попытался вообразить себе их в будущем творящими историю и — решил отделаться от Новака. Для этого я избрал простой способ — перестал учить историю. Первое время он как будто не замечал этого, потом стал говорить:
— Так. Ну, это очень плохо.
Вскоре он снова позвал меня к себе и тем тоном, каким доктора говорят с больными детьми, стал выспрашивать: почему я не учусь? Не помню, что я лгал ему, помню только настойчивое желание рассердить Новака. Это не удалось мне. Схватив меня за плечо, он снова говорил всё о том же: о борьбе народов против вождей и героев своих.
— Всегда побеждает герой, хотя бы он и оказался физически побеждённым, — внушал он мне, а я думал, что, если он снимет очки, предо мною заблестят глаза человека безумного.
Ушёл я от него совершенно уверенный, что этот человек не для меня. Как избавиться от него?
Помогла внезапная болезнь и быстрая смерть дяди: он простудил горло во время крестного хода на иордань, заболел ангиной, затем какой-то идиотский, неуловимый стрептококк проник в мозг его и в два дня убил красивого, здорового человека. Думаю, что никто никогда не чувствовал так глубоко страшную глупость смерти и жалобную беззащитность жизни, как почувствовал это я, когда увидел искажённое, синее лицо дяди, его спутанную бороду и разбросанные по подушке волосы его, — они как будто встали дыбом от ужаса.
Как мрачно звучит колокол, возвещая о смерти священника!
Эта смерть раздавила меня.
Я любил дядю. Здоровый, весёлый, надёжный человек, он обладал спокойной уверенностью, что всё в мире идёт хорошо. Смеялся и говорил на о́:
— Хорошо жить умеет тот, кто любит смех.
Теперь уже не спросишь его: зачем нужны стрептококки и любят ли они смеяться? И не услышать ответа баритоном, в котором звучала басовая струна виолончели:
«Ты, сударь, помни: чем больше возникает вопросов, тем глупее становятся они. Это знал ещё Лактанций».
Он любил клеветать на отцов церкви и философов, навязывая им свои шутливые мнения или приписывая мысли одного — другому. Когда же его уличали в ошибках и искажениях, он смеялся, спрашивая:
— Кто страдает от этого? Увеличу ли я маленькие неприятности мира сего, изобразив Платона скептиком?
Он часто говорил:
— Верую, ибо это бессмысленно.
А когда ему указывали, что «это» излишне, он возражал:
— Отнюдь; ибо «это» относится к самой вере.
Его торжественно отнесли на кладбище, зарыли в железную землю, — я стоял над могилой до поры, пока снег не покрыл её. Густо шёл снег в этот день. Из тела моего как будто выпала какая-то кость. Я ослабел, перестал ходить в гимназию, уныние душило меня.
А Новак скоро был вызван в Петербург, там ему предложили работу в министерстве. Провожая его, я с удивлением почувствовал, что отъезд этого человека неприятен мне не меньше, чем было неприятно знакомство с ним. Это, вероятно, потому, что смерть дяди слишком обострила ощущение моего одиночества. Мне был нужен какой-то человек, один человек.
Конечно, у меня были товарищи. Они пили водку, ухаживали за гимназистками, посещали публичные дома. Я не любил водку и боялся заразиться. Мою потребность мужчины охотно удовлетворяла горничная Дуня, женщина лет тридцати, бесстыдная, хитрая и жадная к деньгам. С барышнями я был застенчив, робок, не умел говорить с ними, да и не о чем было говорить, — большинство из них читали не те книги, которые любил я. Когда я говорил, что мне нравятся романы Дюма, они снисходительно и обидно усмехались.
Моя мать любила хорошо покушать, и в этом был главный интерес её жизни; она собирала у себя таких же гастрономов и кормила их, потом каждый из них кормил её у себя.
Красивая, полнокровная женщина, с ласковыми синими глазами, она двигалась лениво, говорила медленно, это придавало ей значительность и нравилось мужчинам.
Когда я был в седьмом классе, мать затеяла роман с врачом, весёлым парнем, только что кончившим учиться. Она была настроена против моего поступления в университет, боялась «политики», была уверена, что я немедленно приму участие в студенческих волнениях и погибну в тюрьме, в ссылке. Ей легко было уговорить меня подождать год, отдохнуть от гимназии, я согласился на это, хотя подозревал, что за этот год мать попытается женить меня. Пыталась, но — безуспешно. Я относился к женитьбе отрицательно. Мой маленький опыт половой жизни внушил мне очень нелестное мнение о ней и привил порядочную дозу, так сказать, физиологического скептицизма. Стоит ли терпеть множество различных неудобств и беспокойств ежедневно, на протяжении долгих лет, для того только, чтоб получить за это минуту приятной судороги? Стоит ли ради этой минуты держать около себя человека иного пола, иной психологии, и притом человека, который почему-то уверен, что он имеет право спрашивать тебя, о чём ты думаешь, что и как чувствуешь? Если б можно было жену, как суп, готовить в кухне, чтоб каждый день она была иного вкуса…