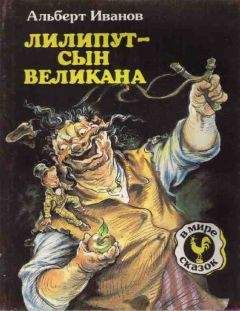Михаил Салтыков-Щедрин - Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке
— С кем вы сейчас говорили?
— Помилуйте, скотина!
Сегодня «скотина», завтра «скотина», а послезавтра и сам черт не разберет: полно, «скотина» ли?
Между тем бьет семь часов, и волна людская опять растет около курзала. Оркестр гремит; бонапартистки, переменивши туалет, скользят между столами; около одной, очень красивой и роскошно одетой, собралось целое стадо habitués[36] и далеко, под сводом платанов, несется беззаветный хохот этой привилегированной группы, которая, по всей линии променад, прижилась как у себя до̀ма. Все прочие бонапартистки отчасти завидуют ей, отчасти млеют перед ней в благоговении. Это белокурая испанка от колена Монтихова, которую сама «вдова» благословила* летом разъезжать по курзалам, а зимой блистать в Париже и наблюдать за мосье Гамбетта̀. Она дает тон курорту; на ней одной можно воочию убедиться, до какого совершенства может быть доведена выкормка женщины, поставившей себе целью останавливать на своих атурах вожделеющие взоры мужчин, и в какой мере платье должно служить, так сказать, осуществлением этой выкормки. Да, платье именно должно быть таково. Оно не обязывается ни подчеркивать, ни комментировать, ни увлекаться в область парадоксов, а именно только осуществлять.
Статуя должна быть проста и ясна, как сама правда, и, как правда же, должна предстоять перед всеми в безразличии своей наготы, никому не обещая воздаяния и всем говоря: вот я какая! Что же касается до того, какие представления «в случае чего» надлежит иметь относительно этой статуи-правды, то роль путеводителей в этом разе предоставляется перехватам, бантам, цветам и другим архитектурным украшениям. Где бант — там остановка, где перехват — там гляди. Единственное темное пятно в современном женском туалете — это юбка, которую, несмотря на все усилия, никак не могут упразднить «законодатели мод». Она одна оставляет в статуе некоторые неясности, одна служит оградительницей интересов современной семьи. Впрочем, эти неясности отчасти уже устраняются при помощи ноги. Нога (а не ножка, как выражались любезники сороковых годов) должна быть видна во всей своей скульптурной образности; нога и часть икры… Вот вам на первый раз, а остальное, конечно, тоже придет, но нужно же иметь сколько-нибудь терпения!
Толпа гудит, сама не сознавая, к чему она стремится, чего желает. Ничего, кроме праздных мыслей, праздных слов и праздных поступков. Это самое полное, самое беззаветное осуществление идеала равенства… перед праздностью. Если кто «до̀ма» сознавал за собою что-нибудь оригинальное, тот забывает об этом, стушевывается перед общим уровнем ликующей толпы. И это происходит не по принуждению, а незаметно, само собой. Вдруг как-то исчезает всякая гадливость.
Это обезличение людей в смысле нравственном и умственном и, напротив, слишком яркое выделение их с точки зрения покроя жилетов и количества съедаемых «шатобрианов», это отсутствие всяких поводов для заявления о своей самостоятельности — вот в чем, по моему мнению, заключается самая неприглядная сторона заграничных шатаний. Ежели обязательно суетливая праздность производит скуку, то продолжительное отсутствие проявлений самостоятельности может иметь последствием полнейшую умственную и нравственную анемию. И я убежден, что многие, воротясь домой, не без удивления вспоминают о месяцах, проведенных в чуждой среде, под игом понятий и привычек, о существовании которых они только тут в первый раз узнали.
По крайней мере, я испытал нечто подобное на себе. Представьте себе, вновь встретился с Удавом и Дыбой — и обрадовался. И они мне обрадовались и в один голос воскликнули: Вот как! ну, и слава богу!
Они ходили всегда вместе, во-первых, потому, что были равны в чинах и могли понимать друг друга, и, во-вторых, потому, что оба чувствовали себя изолированными среди курортной толкотни. Хотя и кроме их в курорте была целая масса бесшабашных советников, но Дыба и Удав добыли свои чины еще по старому положению и притом имели довольно странные гербы. Поэтому прочие бесшабашные советники, добывшие свои чины повадливостью и тщательно расчесанными на затылках проборами, перекидывались с ними двумя-тремя учтивостями и устремлялись дальше, как бы задыхаясь в атмосфере старческих грехов, которую распространяли кругом себя вышедшие из употребления сановники. Не было явного пренебрежения, но не было и предупредительности. Однако ж старики в первое время все-таки тянулись за так называемой избранной публикой, то есть обедали не в час и не за табльдотом, а в шесть и à la carte[37], одевались в коротенькие клетчатые визитки, которые совершенно открывали их убогие оконечности, подсаживались к молодым бонапартистам и жаловались, что доктор не позволяет пить шампанское, выслушивали гривуазные анекдоты и сами пытались рассказать что-то неуклюжее, засматривались на бонапартисток и при этом слюнявили переда своих рубашек и проч. Но все эти усилия ни к чему не привели. Избранная публика даже одним ухом не слушала их, но совершенно явно показывала, что совсем ничего не слышит, так что, в конце концов, всегда оказывалось, что, думая обращаться к публике, старики исключительно разговаривали друг с другом. Не раз случалось и так, что «знатные иностранцы», пораженные настойчивостью, с которою старики усиливались прорваться в ряды «милых негодяев», взглядывали на них с недоумением, как бы вопрошая: откуда эти выходцы? — на что прочие бесшабашные советники, разумеется, поспешали объяснить, что это загнившие продукты дореформенной русской культуры, не имеющие никакого понятия об «увенчании здания»*. К несчастию, старики проведали об этом и огорчились. А в довершение приключилось и еще одно обстоятельство. В курорт прибыл какой-то вновь определенный принц, и некоторый русский сановник, приводивший в это время в порядок свои легкие, счел долгом почтить высокопоставленного гостя обедом. Все «знатные иностранцы» получили приглашения, но Удав и Дыба были забыты. Это тем более их поразило, что они невольно вспомнили дележку в Уфимской губернии, при которой тоже были забыты. Поступят ли в дележку «полезные лесочки» Вятской губернии — это еще бабушка надвое сказала, а Уфимская-то губерния — ау! Словом сказать, старики заскучали и круто переменили свой образ жизни. От обедов à la carte в курзале перешли к табльдоту в кургаузе, перестали говорить о шампанском и обратились к местному кислому вину, приговаривая: вот так винцо! бросили погоню за молодыми бесшабашными советниками и начали заигрывать с коллежскими и надворными советниками. По вечерам посещали друг друга в конурах, причем Дыба читал вслух «Ключ к таинствам природы» Эккартсгаузена и рассказывал анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, сопровождая эти рассказы приличным экспекторированием.
Итак, мы встретились и взаимно друг другу обрадовались.
— Вот вы как! — удивился Дыба, — а мы было думали, что вы прямо в Швейцарию стопы направите?
— Да, было-таки предположение, — подтвердил и Удав, но без угрозы, а скорее с шутливою снисходительностью.
— Но почему же ваши превосходительства думали, что я непременно поеду в Швейцарию, а не в Испанию, например?
— Зачем в Испанию? что̀ там делать? Там, батюшка, нынче Изабелла в ход пошла!* Ну, да уж что̀! Кто старое помянет…
И Удав с улыбкой протянул мне руку, в знак забвения, но вслед за этим словно обеспокоился и спросил:
— Не одобряете?
— Не одобряю! — воскликнул я твердо.
— И нельзя одобрить. Хотя, с одной стороны, конечно… однако, тем не менее… Лучше не ездить.
Это было ужасно доброжелательно. Но так как будущее сокрыто от смертных и могло представить надобность в поездке в Швейцарию независимо от всяких превратных толкований, то я все-таки поспешил оградить себя.
— Ваши превосходительства! — сказал я, — вы напрасно считаете Швейцарию месторождением исключительно превратных толкований. Есть, например, в Люцерне «Раненый Лев» — это, я вам доложу, такая штука, что хоть бы и нам с вами!
Я изложил, как умел, смысл и содержание памятника и, разумеется, привел бесшабашных советников в восхищение.
— Так вот они, швейцарцы, каковы! — воскликнул Дыба, который о швейцарцах знал только то, что̀ случайно слыхал от графа Михаила Николаевича, а именно: что некогда они изменили законному австрийскому правительству, и с тех пор опера «Вильгельм Телль» дается в Петербурге под именем «Карла Смелого».*
— А впрочем, бог с ней, с Швейцарией… Из России, ваши превосходительства, не имеете ли известий? — переменил я разговор.
— Как же! почитываем кое-что; и в своих, и в иностранных газетах; ну, и письма…
— Чай, хорошо теперь там?
— Об «увенчании здания» поговаривают… будто бы без этого никак невозможно…