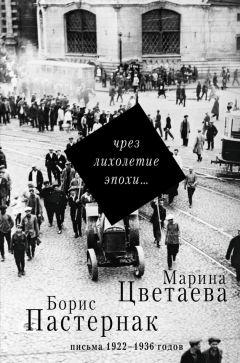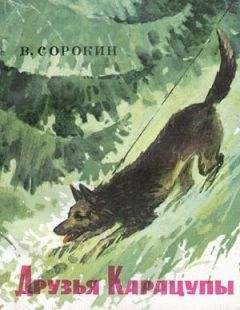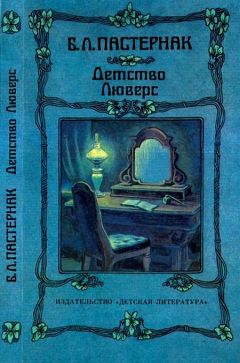Борис Пастернак - Охранная грамота
Это только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодух и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станций брали при его следованьи под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видное отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.
Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошенья. Во всем в обтяжку, они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.
Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в Лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный -ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.
Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закосился ввысь, на унизительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затменье, то сапожком, то шишкой сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.
8
Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С-х - 3. М. М-ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколенья. Время показало, что я не ошибся.
Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и доныне для меня недоступна, потому что поэзия моего пониманья все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и при всей неряшливой пошлости поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.
Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколенье выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращеньи от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.
Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М-вой я увидал тогда первый в моей жизни примус. Изобретенье не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространенье.
Чистый ревущий кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на огненной земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И - бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сластями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра по возможности, то есть часа в три пополудни.
Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбужденье. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.
9
Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.
Обычно же его симпатии вызывали недоуменье. Поэт с захватывающе крупным самосознаньем, дальше всех зашедший в обнаженьи лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.
Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна "Медного всадника", "Преступления и наказания" и "Петербурга", город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетья.
Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаньями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности.
10
Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.
Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов - наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело - вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченое, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.
Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.
Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.
От М-вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в теченье нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.
Меня заклял отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращеньи на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобожденья перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованьях.