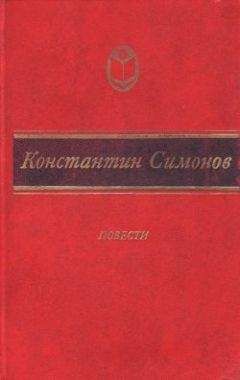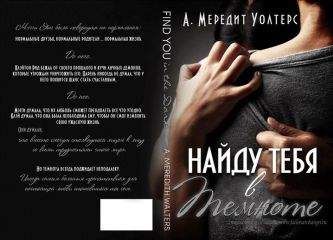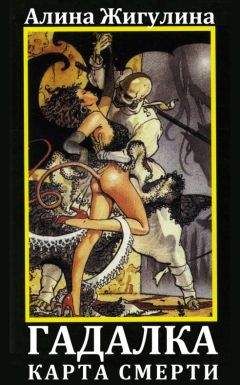Александр Солженицын - Бодался телёнок с дубом
Он кончил читать, и мы пошли с ним смотреть рязанский Кремль и разговаривать о романе. Обещанный разговор о самом А. Т., видимо, весь усочился в ночной самодиалог.
- И имея такой роман, вы ещё могли ездить собирать материалы для следующего?
Я:
- Обязательно должен быть перехлёст. На реке нельзя останавливаться, надо захватывать предмостный плацдарм.
Он:
- Верно. А то кончишь, отдохнёшь, сядешь за следующий, а - хрeна! не идёт!
Твардовский хвалил роман с разных сторон и в усиленных выражениях. Там были суждения художника, очень лестные мне ("Энергия изложения от Достоевского... Крепкая композиция, настоящий роман... Великий роман... Нет лишних страниц и даже строк... Хороша ирония в автопортрете, при самолюбовании себя написать нельзя... Вы опираетесь только на самых главных (т. е. классиков) да и то за них не цепляетесь, а своим путём... такой роман - целый мир, 40-70 человек, целиком уходишь в их жизнь, и что за люди!..", хвалил краткие, без размазанности, описания природы и погоды.) Но были и суждения официального редактора тоже: "Внутренний оптимизм... Отстаивает нравственные устои", и главное: "Написан с партийных позиций(!)... ведь в нём не осуждается Октябрьская революция... А в положении арестанта к этому можно было прийти."
Это "с партийных позиций" (мой-то роман!..) - примечательно очень. Это не была циничная формулировка редактора, готовящегося "пробивать" роман. Это совмещение моего романа и "партийных позиций" было искренним, внутренним, единственно-возможным путём, без чего он, поэт, но и коммунист, не мог бы поставить себе цель - напечатать роман. А он такую цель поставил - и объявил мне об этом.
Правда, он попросил некоторых изменений, но очень небольших, главным образом со Сталиным: убрать главу "Этюд о великой жизни" (где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию, что Сталин сотрудничал с царской охранкой); и не делать такими уверенно-точными детали быта монарха, в которых я уверен быть не мог. (А я считал: пусть пожнёт Сталин посев своей секретности. Он тайно жил - теперь каждый имеет право писать о нём всё по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать свою картину, заразить читателей.)
Вообще же о сталинских главах в романе он хорошо сказал: их можно было бы и изъять, но отсутствие их в романе могло бы быть воспринято как "испугался", "побоялся не справиться". В них можно допустить даже некоторую излишность, то есть сверх того, что необходимо для конструкции романа.
А Спиридон показался ему слишком коварен, хитёр, нарисован "несколько с горожанскими представлениями". Сперва я удивился: неужели я его не добротно описал? Но понял: о мужике так много плохого сказано с 20-х годов, что Твардовскому больно уже тогда, когда говорится не одно сплошь хорошее. Это уже - отзывно, идеализация нехотя.
Утром четвёртого дня мы неумело пытались пресечь начало запоя А. Т. тем, что не дать ему опохмелиться - однако, он досуха лишился возможности завтракать, не мог взять куска в рот. С детской обиженностью и просительностью улыбался: "Конечно, черемисы не опохмеляются. Но ведь и что за жизнь у них? Какое низкое развитие!" Кое-как согласился позавтракать с пивом. На вокзале же с поспешностью рванул по лестнице в ресторан, выпил поллитра, почти не заедая, и уже в блаженном состоянии ожидал поезда. Только повторял часто: "Не думайте обо мне плохо".
Все эти подробности по личной бережности может быть не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления, какими непостоянными, периодически-слабеющими руками вёлся "Новый мир" - и с каким вбирающим огромным сердцем.
Итак мой замысел - завлечь Твардовского моим романом в отсутствие Дементьева как будто удался. Твардовский не только хвалил роман - он готовился принять за него и страдания. Он даже торопил меня при расставаньи: скорей переделывать сталинские главы и привозить ему окончательный вариант.
А это уже и выходило за пределы моих ожиданий! Я не мог поверить, чтобы "Круг первый" способен был проскочить в печать в 1964 году. Но тогда зачем же я давал его Твардовскому?.. чего хотел? Пожалуй, опять как с "Иваном Денисовичем": переложить с себя на него ответственность за эту вещь. Чтобы он знал: вот есть такая. А самому не упрекаться, что ничего не сделал для продвижения. Теперь же я как будто ввязывался в ложную бесплодную возню и только отвлекался от настоящей работы.
Через две недели я привёз Твардовскому роман с переделками. Как и все мои пещерные машинописи, эта была напечатана обоесторонне, без интервалов и с малыми полями. Ещё предстояло её всю перепечатывать, прежде чем что-то делать.
А. Т. встретил меня у себя дома такой чистенький, по детскому славный, в бархатной курточке, что невозможно было и предположить, будто он когда-либо выпивает, вообразить его ревущим буйволом в трусах. Он был один: жена поехала ближе разглядывать новокупленную на этих днях дачу в Пахре (свою прошлую он отдал замужней старшей дочери).
А. Т. не только очнулся от запоя, но и протрезвился от восторгов по поводу романа, был настроен гораздо осмотрительнее: уже сокращал список лиц, кому надо дать прочесть. "АлГриг" (Дементьев) был, конечно, первый читатель.
- Он, разумеется, будет против, - не упускал я ещё раз предварить. Но ведь ему шестьдесят лет, он переживал и гонения - до каких пор можно жаться?
- Он эволюционирует на моих глазах! - повторял А. Т.
Правда, в редакции быстро входил в доверие Твардовского Лакшин, его влияние в те годы было противоположно дементьевскому, они частенько схватывались. В одну из схваток Лакшин сказал:
- Мы с Александром Григорьевичем оба - историки литературы и должны понимать, что подлинная история литературы сейчас делается именно в "Новом мире", а не в "институте мировой литературы".
Это хорошо было сказано (и в иные месяцы так и было). Лакшин поддержал "Круг".
Пока роман перепечатывался, Твардовский забирал в сейф все экземпляры и зорко следил, чтобы читали только члены редакционной коллегии (даже редакторам отдела прозы, своим извечным неоценимым работягам, он не дал прочесть!): пуще всего он боялся теперь, чтобы роман не распространился по рукам, как было с "Иваном Денисовичем".
Так сошлось, что три дня Пасхи он читал у меня роман, а обсуждать его редакционная коллегия собралась на Вознесение, 11 июня. Заседание шло почти четыре часа, сам А. Т. в начале объявил его "приведением к присяге". Он сказал, что все эти 40 дней роман был "предметом душевного обихода" для него, что он непрерывно его осмысливает, "считаясь не только с точкой зрения вечности, но и - как он может быть прочитан теми, от кого зависит решение". Уязвимыми объявил Твардовский только детали сталинского быта; ещё он хотел бы, чтоб я "смягчил резкие антисталинские характеристики"; опустил бы "Суд над князем Игорем" "за литературность". Вступление своё он закончил даже с торжественностью: "Для нормативной критики этот роман не только должен быть спущен под откос, но должно быть возбуждено уголовное преследование против автора. Кто же мы? Уклонимся ли от ответственности? Кто хочет сформулировать? Кто хочет разок бултыхнуться в воду?".
Так оправдало себя чтение романа Твардовским, "оторванное" от заместителей! "Самое первое обсуждение", как сказал А. Т., и было здесь, при мне, и таким торжественным приглашением начинал его главный редактор. Ещё входя на обсуждение, я постарался в таком порядке поздороваться, чтобы с Дементьевым - последним. Я ожидал от него сегодня атаки наопрокид. Он же с самого начала вместо удобного развала в кресле примостился зачем-то на подоконник раскрытого окна. За окном грохотала улица. Твардовский не преминул заметить:
- Ты что, потом скажешь: а мне не слышно было, о чём толковали?
Дементьев продолжал сидеть там же, с неудобно свешенными ногами:
- Жарко.
Твардовский не унимался:
- Так ты рассчитываешь воспаление лёгких схватить? И потом нужное время в постельке пролежать?
Пришлось Дементьеву слезть и сесть со всеми. Он так был подавлен, что даже не отшучивался. Да ведь давно и верно он предчувствовал, куда их заведет эта игра с тихим рязанским автором.
А прения начать пришлось Кондратовичу. Лицо Кондратовича как бы приспособлено к убеждённому выражению уже имеющегося, уже названного мнения. Он тогда умеет и выступать с прямодышащей взволнованностью, заливчато, кажется и умереть за это мнение готовый, так верен службе. Но не представляю себе его лица, озаряемого самостоятельно-зреющим убеждением. Нестерпимо было бы Кондратовичу начать эти прения, если б долголетнее общение с цензурой не уравняло его обоняние с обонянием цензуры. Как внутри военного бинокля уже содержится угломерная шкала и накладывается на всё видимое, так и глаза Кондратовича постоянно видели отсчёты от красной линии опасности.
Порадовался Кондратович, что "не умирал жанр романа", и вот движется. И тут же легонечко проурчал о "подрыве устоев", "чем больше художественная сила изложения, тем больше разоблачения перерастают в символ" ("Да нет, успокоил его А. Т., - об идее коммунизма здесь речь не идёт"). Но ведь освобождённый секретарь - это не просто частный парторг Степанов, это символ! Предлагал Кондратович "вынимать шпильки раздражённости" из вещи там и сям, много таких мест. Нашёл он "лишнее" даже в главах о Большой Лубянке. Озаботило его, что ступени лубянские стёрты за тридцать лет, "значит падает тень и на Дзержинского?" - Заключение же дал удобное в оба конца, как по "Денисовичу" когда-то: "Напечатать невозможно. Но и не напечатать морально невозможно: как допустить, чтоб эта вещь лежала, а читатели её не читали бы?"