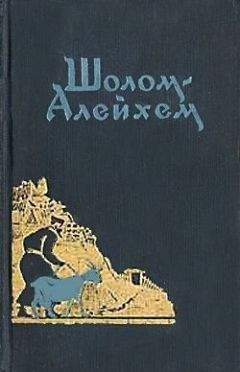Николай Наседкин - Муттер
И вот я, решив активизировать немецкую струю в нашей семье, для начала послал муттер из столицы два толстенных великолепно изданных в Лейпциге тома "Братьев Карамазовых", подписав поздравление с днём рождения и пожелания по-немецки. Анна Николаевна уже вскоре после своего "спасибо", охладила мой подарочно-немецкий порыв: ни в коем случае, писала она, не присылай мне больше русских писателей на немецком - перевод ужасен, читать противно. Почему я не покупал Гейне или Ремарка в подлиннике? Вероятно, их не было в продаже, только в переводе Тургенев, Чехов, Достоевский...
И ещё раз попытался я установить с матерью немецкий контакт. Приехав летом на каникулы, я в первый же день, предварительно отрепетировав материал, вдруг перешёл этак непринужденно (мы сидели за кухонным столом) на дойч:
- Их виль хойте етвас ессен. Ферштейн зи? Гебен зи мир битте айн бутербро-о-од.
В переводе это означало, если дословно перевести: "Я хочу сегодня немного кушать. Вы понимаете? Дайте мне, пожалуйста, хлеба с маслом".
Анна Николаевна внимательно, поверх очков, глянула на меня и сурово изрекла:
- Ты уж, битте, так не говори по-немецки.
И это была вторая крупная педошибка Анны Николаевны на пути приобщения сына к своему второму родному языку. Первую она совершила за двадцать лет до того, когда усадила однажды меня, пятилетнего, за стол и с придыханием молвила:
- С сегодняшнего дня, Саша, я буду тебя учить великому немецкому языку - языку Шиллера и Гёте. Сейчас, в таком возрасте, очень легко воспринимать иностранные языки. Ты будешь знать его в совершенстве, лучше меня...
И - началась каторга. Меня хватило ровно на три с половиной занятия. За которые я выучил в совершенстве четыре чужеземных слова: "ди шуле", "ди киндер", "ге-ен", "алле", и затвердил фразу, слепленную из этих слов: "Алле киндер геен ин ди шуле" - "Все дети идут в школу". Точка. К четвёртому занятию у меня в организме выкристаллизовался такой стойкий иммунитет на немецкий язык, что я, дрыгая ногами, закатил истерику по-русски и напрочь, намертво отказался от домашних даровых уроков.
Отвращение это сохранилось у меня на всю жизнь и - Боже ж ты мой! какие муки претерпевал я на уроках иняза в школе, на семинарах в университете. И вот, когда я на первом курсе решился-таки всерьёз взяться за дойч, сделаться, наконец, интеллигентом-полиглотом, Анна Николаевна вновь отбила охоту, остудила меня, не поддержав мой порыв.
Впрочем, особо я не убиваюсь, не казнюсь, не числю себя в рядах ущербных. Ну не владею я в совершенстве ни единым иностранным языком пусть. Ну что я могу поделать со своей врожденной ленью и, самое главное, со своей природной застенчивостью? Ведь надо быть хотя бы чуть нагловатым, не закомплексованным, чуть клоуном, чтобы не стесняться говорить на чужом языке, смешно артикулируя, гримасничая по-обезьяньи, смеша поначалу специалистов дебильным произношением. Да и я знаю и уверен - мне жизни не хватит, дабы в совершенстве выучить родной, русский, язык, так почему я должен время тратить на чужой мне? Чтобы (вот уж первый аргумент в таких спорах!) читать в подлиннике Гёте и Карла Маркса. Ну, Гёте мне и в переводах не шибко увлекателен, Маркс с Энгельсом тем более - до фени. А вот чтобы читать на их родных языках Диккенса, Бальзака, Сервантеса, Гамсуна, Гомера, Апулея, Чапека, Кобо Абэ, Жоржа Амаду, Боккаччо, Гофмана, Эдгара По, Сенкевича, Омара Хайяма, Василя Быкова, Куусберга, Пулатова, Матевосяна и десятки других, интересных мне писателей, я должен был бы освоить под сотню языков. Это невозможно. А какой-то один выделить и затвердить бессмысленно. Мне, повторяю, никакой жизни недостанет прочитать в подлиннике все гениальные и талантливые книги, созданные на одном, великом и могучем языке - русском...
Ну ладно, эти мысли - в сторону.
И вот, кто бы знал, какие дополнительные сложности возникают у человека, если его родная мать учительница. Дело не только в том, что любая мало-мальская моя проказа, промашка или неудача на уроках сразу, мгновенно, в ближайшую перемену становилась известна Анне Николаевне; главное в том, что в ситуации, когда за партой сидит сын, а за учительским столом в том же классе его мать - много двусмысленного, фальшивого и нервомотательного.
Учился я в общем-то неплохо, особенно до 8-го класса - впереди даже поблёскивала мне медалька. Но в 1967 году, в конце моего 7-го класса, мы в очередной раз перебрались на новую фатеру, я вступил в новую уличную компашку, очень быстренько охамел (совпал как раз переходный возраст), распрощался скоренько со славой одного из первых учеников школы и с головой унырнул в омут подросткового безудержного и бесшабашного бунтарства. Уже по итогам 8-го класса схлопотал я годовую четверку по поведению, что по меркам сельской школы того времени, ни в какие рамки не лезло - форменное преступление.
Короче, первые семь школьных лет я матери особых хлопот не доставлял, напротив, стабильно подбрасывал полешки в костерок её материнско-учительской гордости. Тем паче что Люба, двумя классами опережавшая меня, тянула еле-еле на троечку, к учёбе чувствовала вялотекущую аллергию. Я же раз на первомайской демонстрации ехал впереди всей школьной колонны в ракете, изображая космонавта по праву неисправимого отличника. Постоянно таскал я домой скромные, но приятные для нас с матерью презенты за успехи в учебе грамотки и книжки. Несколько раз снимали меня и на школьную Доску почета. Посейчас сохранилась одна такая наградная фотография, за 2-й класс. Взгляну на неё, и стукнет сердце дважды крепенько. Первый раз - какой я был! Второй - как я жил!.. Как же унизительно я жил! Ибо на снимке запечатлено только мое лицо, а вот курточка махровая на молнии с белым отложным воротничком - не моя. Во что я был одет, я не помню, но хорошо впечаталось в сердце, как нетерпеливый фотограф (учитель физики) посчитал моё одеяние недостойным Доски почета. Рылом, выходит, вышел, одёжей - нет. И однокашник Витька Александров скинул мне на минуту свою приличную курточку, помог отличнику 2 "А" класса Новосельской средней школы Александру Клушину выглядеть отлично...
Вторая сложность - столкновение в одном классе мамы-преподавательницы и сынишки-ученика - тоже проявилась не сразу. У нас работали две немки. И специально не специально ли так вышло, но в моем классе иняз в наши головы вдалбливала другая немка - молодая нервная хакаска, Тамара Сергеевна. С матерью моей у нее были, судя по всему - как я уже потом, позже догадался, отношения довольно сложные, замысловатые.
То ли конкуренция за плановые часы (больше часов - весомей зарплата), то ли профессиональное соперничество, то ли возрастной антагонизм - не знаю. Бог с ними. Только Тамара Сергеевна держалась со мною подчеркнуто сухо, официально, чуть пренебрежительно, свысока.
Рисовала она мне в журнале после каждого ответа пятёрку - фюнф. Правда, ненавистный дойч я долбил больше других предметов (вернее, только его и долбил), поднадувая пузырь-статус отличника, но всё же по-немецки я гундосил в лучшем случае на фир, то есть на "хор". Но в том-то и штуковина, что Тамара Сергеевна, снисходительно-брезгливо морщась, выставляла каждый раз сынку "соперницы" демонстративно-унизительную пятерку. У меня хватало детской глупости и безволия этому вполне искренне радоваться.
Лишь однажды гейзер, бурливший в душе Тамары Сергеевны, прорвался наружу, обжёг меня, ошпарил, испугал. Во время очередного урока - а было это уже в 8-м, уже когда я начал стремительно разбалтываться - Тамару Сергеевну одолел чох. Простудилась, видно. Почихает, почихает в платочек и - опять: "Шпрехен зи битте дойч". И чёрт же меня дёрнул! Сидел я на первой парте, с краю, рядом с Людой, первой моей ещё полудетской любовью. И так мне хотелось перед ней, перед Людочкой, вывернуться - показаться остроумным, сообразительным, находчивым. Я и сообразил, я и нашелся - приник к её ушку, приложил лодочкой ладонь к своим губам и прошептал:
- Тамара-то точь-в-точь как наша Мурка чихает - пчхи! пчхи! пчхи!
Я уже приготовился захихикать вместе с Людочкой - до того ловко передразнил я немку, как вдруг Тамара Сергеевна, не слабже чем та же Мурка на мышь, прыгнула на меня, вцепилась в шкирку, выволокла из-за парты, швырнула к доске. Следом подскочила ко мне, обомлевшему, оцепеневшему, сгребла за грудки (я был ниже её на полголовы) и принялась стебахать меня лопатками о доску, стирая моей спиной меловые модальные глаголы. Она визжала, брызгая в испуганное мое лицо гриппозной слюной:
- Как ты смеешь? Ты свою мать не посмеешь передразнивать? А меня можно? Тогда у нее учись! У нее - понял?!
Увы, параноидная сцена закончилась слезами - и Тамары Сергеевны, и моими. Сперва она, перестав терзать меня, бросилась, рыдая, из класса. Следом, взвывая и втирая кулаками слёзы обратно в глаза, ринулся в коридор и я. Что в сей пикантный момент делали одноклассники - хоть убей не помню, но, думаю, удовольствие зрительское они испытали не из последних.