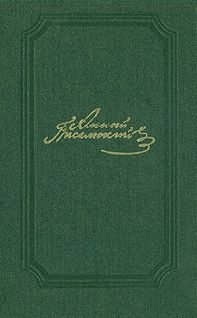Алексей Писемский - В водовороте
На даче Григоровы обедали ранее обыкновенного и потому вскоре затем пошли и сели за стол.
– Как чувствует себя бедная Марья Васильевна? – спросила княгиня барона.
– Ах, боже мой! Виноват, и забыл совсем! Она прислала вам письмо, – проговорил тот, вынимая из бумажника письмо и подавая его князю, который с недовольным видом начал читать его.
– Марья Васильевна поручила мне умолять князя, чтобы он хоть на несколько дней приехал к ней в Петербург, – объяснил барон княгине.
– Я и сама думаю, что ему надобно съездить, – проговорила та.
– Ты думаешь, а я не думаю! – произнес сердито князь, кидая письмо на стол. – Черт знает, какая-то там полоумная старуха – и поезжай к ней!.. Что я для нее могу сделать? Ничего! – говорил он, явно вспылив.
– Утешил бы ее тем, что она увидит тебя, больше ничего, – подхватила княгиня.
– Если ей так хочется видеть меня, так пусть сама сюда едет, – сказал тем же досадливым голосом князь.
– Как же самой ей ехать! – возразила княгиня.
– Она тронуться с постели теперь не может! – поддержал ее барон.
– Ну, когда не может, так и сиди там себе! – сказал князь резко, и вместе с тем очень ясно было видно, до какой степени он сам хорошо сознавал, что ему следовало съездить к старушке, и даже желал того, но все-таки не мог этого сделать по известной уже нам причине.
Княгиня на последние слова его ничего не сказала; барон тоже. Он, кажется, начинал немножко догадываться, что между супругами что-то неладное происходит.
После обеда князь пригласил барона перейти опять в их мужской флигель. Барон при этом взглянул мельком на княгиню, сидевшую с опущенными в землю глазами, и покорно последовал за князем.
Княгиня, оставшись одна, опять села за рояль и начала играть; выбранная на этот раз ею пьеса была не такая уже грустная и гневная, а скорее сентиментальная. Видимо, что играющая была в каком-то более мечтающем и что-то вспоминающем настроении.
Князь между тем велел подать во флигель шампанского и льду и заметно хотел побеседовать с приятелем по душе. Приглашая так быстро и радушно барона приехать к ним, князь делал это отчасти и с эгоистическою целью: он был в таком страстном фазисе любви своей, у него так много по этому поводу накопилось мыслей, чувств, что он жаждал и задыхался от желания хоть с кем-нибудь всем этим поделиться. Барон для этого казался ему удобнее всех. Во-первых, он был старый его приятель, во-вторых, заметно любил и уважал его и, наконец, был скромен, как рыба. Князь совершенно был убежден, что барон, чисто по своей чиновничьей привычке, никогда и никому звука не скажет из того, что услышит от него. Когда стакана по два, по три было выпито и барон уже покраснел в лице, а князь еще и больше его, то сей последний, развалясь на диване, начал как бы совершенно равнодушным голосом:
– Я хочу вам, мой милый Эдуард, открыть тайну, в отношении которой прошу прежде всего вашей скромности, а потом, может быть, и некоторого совета по случаю оной.
– За первое ручаюсь, а за второе, не знаю, сумею ли, – отвечал барон.
– Сумеете, потому что в этом случае вам подскажет ваша дружба и беспристрастие ко мне.
– О, если так, то конечно! – подхватил барон.
Сделав такого рода предисловие, князь перешел затем прямо к делу.
– У меня тут в некотором роде роман затеялся! – начал он как-то не вдруг и постукивая нервно ногою.
– Роман? С кем же это? – спросил барон.
– С девушкой одной и очень хорошей!.. – отвечал князь, окончательно краснея в лице.
– С девушкой даже? – повторил барон. – Но как же княгиня на это смотрит? – прибавил он.
– Княгиня пока ничего, – отвечал князь, держа голову потупленною, и хоть не смотрел в это время приятелю в лицо, но очень хорошо чувствовал, что оно имеет не совсем одобрительное выражение для него.
– Вы лучше других знаете, – продолжал князь, как бы желая оправдаться перед бароном, – что женитьба моя была решительно поступок сумасшедшего мальчишки, который не знает, зачем он женится и на ком женится.
Барон молчал.
– К счастию, как и вы, вероятно, согласитесь, – разъяснял князь, – из княгини вышла женщина превосходная; я признаю в ней самые высокие нравственные качества; ее счастие, ее спокойствие, ее здоровье дороже для меня собственного; но в то же время, как жену, как женщину, я не люблю ее больше…
Барон при этом гордо поднял голову и вопросительно взглянул на приятеля.
– Но за что же именно вы разлюбили ее? – спросил он его.
– И сам не знаю! – отвечал князь; о причинах, побудивших его разлюбить жену, он не хотел открывать барону, опасаясь этим скомпрометировать некоторым образом княгиню.
– Ну, так как вы, мой милый Эдуард Федорович, – заключил он, – полагаете: виноват я или нет, разлюбя, совершенно против моей воли, жену мою?
– Конечно, виноваты, потому что зачем вы женились, не узнав хорошенько девушки, – отвечал барон.
– Совершенно согласен, но в таковой мере виновата и княгиня: зачем она шла замуж, не узнав хорошенько человека?
– Но княгиня, однако, не разлюбила вас?
– А я-то чем виноват, что разлюбил ее? – спросил князь.
– Тем, что позволили себе разлюбить ее, – отвечал барон, сделав заметное ударение на слове позволили.
Князь усмехнулся при этом.
– Вы, мой милый Эдуард, – отвечал он, – вероятно не знаете, что существует довольно распространенное мнение, по которому полагают, что даже уголовные преступления – поймите вы, уголовные! – не должны быть вменяемы в вину, а уж в деле любви всякий французский роман вам докажет, что человек ничего с собой не поделает.
– Но, однако, почему же вы спрашиваете меня: виноваты ли вы или нет? – возразил ему с усмешкою барон.
Князь подумал некоторое время: он и сам хорошенько не давал себе отчета, зачем он спрашивает о подобных вещах барона.
– Очень просто-с! – начал он, придумав, наконец, объяснение. – В каждом человеке такая пропасть понятий рациональных и предрассудочных, что он иногда и сам не разберет в себе, которое в нем понятие предрассудочное и которое настоящее, и вот ради чего я и желал бы слышать ваше мнение, что так называемая верность брачная – понятие предрассудочное, или настоящее, рациональное?
– По-моему, совершенно рациональное, – подтвердил барон.
– Жду доказательств от вас тому!
– Доказательством тому может служить, – отвечал барон совершенно уверенно, – то, что брак[56] есть лоно, гнездо, в котором вырастает и воспитывается будущее поколение.
– Но будущее поколение точно так же бы хорошо возрастало и воспитывалось и при контрактных отношениях между супругами без всякой верности!
– Может быть! Но в таком случае отношения между мужем и женою были бы слишком прозаичны.
– Но зато они были бы честней нынешних, и в них не было бы этой всеобщей мерзости деяний человеческих – лжи! Вы вообразите себе какого-нибудь верного, по долгу, супруга, которому вдруг жена его разонравилась, ну, положим, хоть тем, что растолстела очень, и он все-таки идет к ней, целует ее ножку, ручку, а самого его в это время претит, тошнит; согласитесь, что подобное зрелище безнравственно даже!.. И сей верный супруг, по-моему, хуже разных господ камелий, приносящих себя в жертву замоскворецким купчихам; те, по крайней мере, это делают из нужды, для добычи денег, а он зачем же? Затем, что поп ему приказал так!
Барон усмехнулся: подобная картина верного супруга и ему показалась странна и смешна.
– А что за Москвой-рекой в самом деле можно выгодно жениться на какой-нибудь богатой купеческой дочке? – спросил он вдруг.
– Весьма. Хотите, я буду хлопотать для вас об этом?
– Сделайте одолжение! – подхватил барон шутя. – Однако вот что вы мне скажите, – прибавил он уже серьезно, – что же будет, если княгиня, так вполне оставленная вами, сама полюбит кого-нибудь другого?
– Имеет полное нравственное право на то!.. Полнейшее! – воскликнул князь.
– Ну нет, вы шутите! – произнес барон, краснея даже немножко в лице.
– Нисколько! Я даже душевно желаю того по простому чувству справедливости: я полюбил другую женщину, поэтому и княгиня, если пожелает того, может отдать свое сердце другому; желаю только в этом случае, чтобы этот другой был человек порядочный!
Барон при этом опять усмехнулся и покачал только головой.
– Я все-таки не могу верить, чтобы могли между вами существовать такие отношения, – проговорил он.
– Совершенно такие существуют! – отвечал князь, нахмуривая брови: ему было уже и досадно, зачем он открыл свою тайну барону, тем более, что, начиная разговор, князь, по преимуществу, хотел передать другу своему об Елене, о своих чувствах к ней, а вышло так, что они все говорили о княгине.
– Странно, очень странно, – сказал ему на это барон, в самом деле, как видно, удивленный тем, что слышал.
В это время из сада под окном флигеля раздался голос княгини.