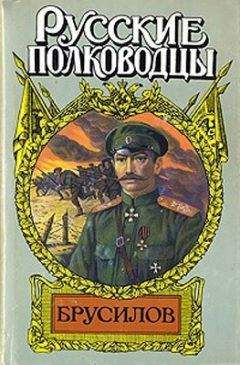Юрий Слёзкин - Разными глазами
Вы — фантазер. Вам легко видеть чрезвычайное в любом своем переживании и поверить любому своему вымыслу. Я же привыкла не доверять даже фактам. С детских лет жизнь научила меня осторожности. Может быть, это очень плохо, но что поделаешь. Вот почему я верю Вашей искренности, но Вам — не верю. Знаю, что не должна верить, если хочу остаться самой собою. В «Кириле» это не всегда мне удавалось — я часто закрывала глаза, когда Вы говорили. И тогда чуть-чуть Вам верила. Этого не нужно было делать. Для Вас же самих. Зачем брать Вам на себя непосильную ношу — веру в Вас другого человека? Рано или поздно Вам пришлось бы отнять ее у него, а это всегда тяжко.
Лучше не надо, милый, милый Николушка! Мне так легко, хорошо было с Вами — оставьте мне эти воспоминания, не углубляйте их, не осложняйте. Мне и сейчас хотелось бы побыть с Вами так же, как тогда в «Кириле»,— посидеть на солнышке, у моря, поспорить, посмеяться, послушать Вашу музыку, Ваш «Поединок» с прошлым — и верить, что Вы в нем окажетесь победителем. Но не больше. Большего я не могу, Николушка!.. А почему, почему — не все ли равно? Ведь важны факты, а не причины.
Да и вовсе я не так хороша, как Вам кажется. Просто я вылеплена из другого теста, чем Вы,— человек для Вас новый. Но не Вы ли укоряли меня за мою сдержанность, замкнутость, холодность? Ведь я, кроме своей клиники, занятий, заседаний и скромных удовольствий, ничего не знаю. Жизнь моя очень трезва, очень прямолинейна, она не рассказывала мне сказок, как Вам. Не забудьте, что человеком я стала в дни революции, выросла на четверти фунта хлеба, на пайке, на холоде, на лишениях. Что я, несмотря на всю свою «ученость»,— совершенно примитивный человек, просто-таки не знаю ничего о той жизни, которой жили Вы — человек старой культуры. Ведь у нас и повадки-то с Вами разные. Вы вот хотите оторвать от себя свое прошлое, а у меня его вовсе не было. Как же мы могли бы слепить общую жизнь? Да нет — разве можно говорить об этом серьезно?
Лучше приходите ко мне, как обещали — пить чай, а потом поедем к Наталии Максимовне в Петровскую академию {25} — есть смородину. И будет нам по-прежнему легко и просто. Ладно?
И не грустите. Не надо. Я не могу Вас даже представить грустным. В моей памяти Вы — всегда молодой, улыбающийся, веселый. С Вашим лицом иным и нельзя быть.
А вот верить тому, что и у таких, как Вы, бывает сильное желание любить, мне очень хочется. Но, по-моему, Вам это ни к чему. Не сердитесь… Любовь несет с собою большое чувство ответственности — она дает радость лишь тем, кто привык отвечать за свои слова и поступки, для других же она лишь непосильная тяжесть.
Вы избалованы легкостью, с какой Вам приходилось избегать этой ответственности, а потому Вы не знали любви. И Вы этим счастливы. Вам можно завидовать. Но следовать Вам я была бы не в силах. Не сумела бы.
Не сетуйте на меня, не печальтесь, не укоряйте себя за свою искренность. Если я не все поняла в Вас, то все же никогда не осуждала. Вы хороши такой — как Вы есть. И если бы крымский отдых был бы обычным моим состоянием, если бы меня не ждали здесь суровые, трезвые будни, я, пожалуй, другого счастья и не искала бы. Но что прекрасно и легко во сне — наяву неосуществимо. А сознайтесь, что Вы часто сон принимаете за действительность и мало задумываетесь о неминуемом печальном пробуждении. Я же и во сне редко вижу сны.
Вот почему, будучи моложе Вас, знаю, что для того, чтобы забыть другого человека, нужна не женщина, а прежде всего — время. У Вас же времени прошло слишком мало, даже принимая во внимание Ваш характер. Останьтесь наедине с самим собой, спросите себя, правы ли Вы, уйдя от той, которую любили, и не спешите делать вторую «глупость» (Вы сами так назвали Вашу женитьбу на любившей Вас девушке, не задумавшись над тем, как дорого стоила ей эта Ваша «глупость»). Море и солнце — лучшие врачеватели, уединение — лучший советчик.
А мне оставьте ничем не затемненную радость воспоминаний о единственном в своей жизни беззаботном месяце и о человеке, который помог мне в полной мере оценить эту беззаботность. Наше знакомство началось с горелок, в сумерки. Помните? Нас познакомил Пороша, мы оказались рядом — в паре. Лица Вашего я не видала, но мне почему-то стало по-детски весело, когда мы побежали, а Пороша не сумел нас догнать. Вы протянули мне руку, я схватила ее,— мы рассмеялись. С этого началась наша дружба. Сознаюсь Вам, я каждый день просыпалась веселой, потому что знала, что увижу Вас. И дурила с Вами от чистого сердца, и нисколько не обиделась, когда Вы меня поцеловали, и очень довольна была, когда Вы мне приносили розы, и даже до сих пор храню Ваш последний букет. Может быть, все это меня очень радовало так, потому что никогда в моей юности этого не испытала, а Вы ни одним пошлым словом не нарушили моей беззаботной дурости.
Оставьте же все так, как есть, прошу, Николушка! Не надо ничего другого. Ведь Вы же хороший.
Не огорчайте свою кичкине. Она теперь вся ушла в работу и даже старается не смеяться, чтобы выглядеть солидней. Вы представляете это?
ДинаXLII
Листки из дневника или неоконченного письма Ник. Вас. Тесьминова, помеченные 5 июля, Хараксы
…Я пойду сегодня далеко — вдоль берега, подбирая камешки. Тут их так много — всех цветов. Они мелкие, гладенькие, хорошо отшлифованные, их приятно держать между пальцами. Кто скажет, что это отдельные жизни, осколки каменных глыб, донесенные волной из глубин, бог весть после какой борьбы, каким долгим, тяжким путем.
Чья-нибудь ленивая рука подымет их, чей-нибудь любопытный глаз улыбнется им — ведь они только красивы и приятны на ощупь, они сверкают под солнцем. О каких катастрофах могут они рассказать нам?
Я часто думаю, что самая большая моя неудача — это то, что я красив. Не так даже красив (это не совсем то слово на современном языке), как весь такой безызъянный внешне, слишком молодой и гладкий на ощупь — тогда как душа у меня некрасивого человека. И если глаза мои зорко и слишком пристально смотрят, то не оттого ли только — думается другим,— что я жадно ловлю внимание к себе? О каких катастрофах можно прочесть в этих глазах?
Это жутко. Так же жутко, как носить на себе комическую маску. Я где-то читал о таком человеке: играя трагического героя, он страдал, бесновался от муки, а над ним смеялись, говорили, что никогда в жизни он не был так смешон. И в моей музыке видят только одну блестящую форму. Разве такой тонкий, изящный, моложавый человек умеет чувствовать по-настоящему?
Какой-то остроумец сказал:
— Цветы существуют для того, чтобы пахнуть.
И, несмотря на очевидную глупость этого определения, ему все поверили.
Другой, хорошо знающий людей, заметил:
— Если бы у Льва Толстого не было бороды, ему следовало бы ее приклеить, иначе никто бы не поверил ему, что он философ.
В трамвае мне говорят:
— Молодой человек, будьте любезны…
С людьми, у которых отросло брюшко, я робею, несмотря на то что я их старше. Я сам перестаю доверять себе.
Никто не скажет, что я глуп, но никто не обратится ко мне за советом.
Большинство очаровательных женщин готовы принадлежать мне, но ни одна дурнушка не приняла моей любви как естественного чувства обыкновенного человека, умеющего любить.
Немного людей меня любят, как любят детей, красивых зверьков, цветы, большинство относится ко мне с бессознательным раздраженным недоверием — это те, кто не любит детей, зверьков, цветов, но я-то знаю, что я далеко не ребенок, не зверек и совсем не цветок, существующий для того, чтобы пахнуть. Мастер ошибся — он вложил мне душу некрасивого человека.
Я самый простой, самый обыкновенный человек. Я думаю, я чувствую, как другие. Но когда я говорю об этом — мне не верят. У меня слишком блестят глаза, слишком молодо лицо, слишком точен, плавен жест. Это красиво, но не убедительно.
Я кричу — мне, смеясь, замечают, что я капризничаю.
— Что же вам еще недостает, Николушка? Вы счастливый человек. Вы Дориан Грей {26}. Жизнь бежит мимо вас, не оставляя следов.
И как часто в этих словах звучит зависть! А более злые решают уверенно:
— Его ничто не трогает. Это эгоист чистейшей воды. Человек без сердца.
Нет, друг мой, красивая маска — самая страшная маска.
Когда Пракситель изваял свою Афродиту {27}, он, ослепленный ее красотой, говорят, тотчас же напился и пошел согревать свое сердце на груди безобразной толстой стряпухи. «Моя Афродита — богиня любви,— сказал он,— но она слишком красива, чтобы любить и быть любимой».
Я далеко не Афродита, но меня изваял тот же злой мастер.
Что же, я пойду сегодня вдоль моря, собирая на ходу камешки. Я не коллекционер, я не берегу эти красивые осколки. Я любуюсь ими и бросаю их снова на песок. Быть может, новый взмах волны обезобразит их, и [на] обратном пути я их не узнаю. Мне все равно. Там, на правом крыле бухты, по земляным холмам рассыпаны тяжелые валуны — один из них лежит в море, вдали от берега.