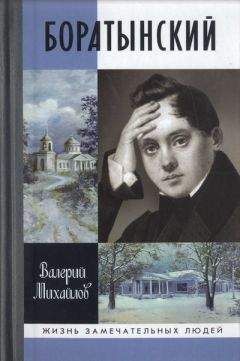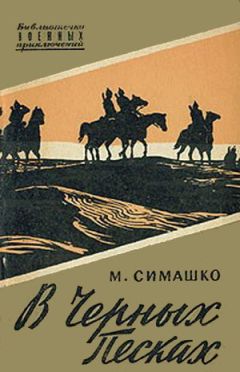А Песков - Боратынский
Ну, и, конечно, как не знать словесность, правительством замаскированную. Посему в одном из книжных шкафов, вероятно, неподалеку от карамзинского Путешествия из Петербурга в Лондон — хранилось Путешествие страдальца Радищева, из Петербурга в Москву ("Славное сочинение, — как писала Елизавета Ивановна Ланская Александре Федоровне, возвращая сию рукопись, — славное, но смертоносное, ибо если ему следовать, надо разломать основание общества").
Не знаем, музицировали ли в Маре. Если пели — то что: "Видел славный я дворец", "Ombra adorata"? [Возлюбленная тень (ит.).] Танцевать любили. Кажется, сочиняли стихи. ("Мне некто сказывал, что вы отлично любите танцевать и что иногда между вами двумя бывают славные балеты. Какие успехи — музыка, стихотворство!")
Вообще в Маре все было не совсем так, как у обычных тамбовских помещиков. Легче, однако, пояснить эту мысль не описанием того, как было у них в доме, а чужим, вполне достоверным рассказом о том, чего в Маре не бывало:
"Весьма немногие из помещиков занимались тогда сельским хозяйством, хлебопашеством; осеннее время для них было лучшее в году; они могли гоняться за зайцами, карты не были еще в таком всеобщем употреблении, как ныне. Их жизнь была совершенно праздная, однако же они не скучали, беспрестанно посещали друг друга, пируя вместе. За обедом и по вечерам шли у них растобары о всякой всячине, они шутили не весьма приличным образом, подтрунивали друг над другом в глаза и весело выслушивали насмешки, в отсутствие вступаясь за каждого, одним словом, в образе жизни приближались к низшему сословию. Барыни и барышни занимались нарядами, а когда съезжались вместе, то маленькими злословиями и сплетнями, точно так же, как в небольших городах.
Оржевка, будучи ни город, ни деревня, имела приятности и неудобства обоих. Не сказываться дома не было возможности, и ежедневным посетителям конца не было. Девицы позволяли себе не только привозить с собою рукоделье, но даже заниматься им в присутствии гостей. Шутихи, дураки, которые были принадлежностью каждого богатого дворянина, также много способствовали к увеселению особ обоего пола всех возрастов.
Беззаботность, веселое простодушие этих владельцев, бестрепетность их слуг, которые смело разговаривали с ними, даже во время обеда, стоя за их стулом, — вся эта патриархальность нравов действительно имела в себе что-то привлекательное".
Так рассказывали о соседях Боратынских — Мартыновых. Мартыновы жили в Оржевке, в тридцати верстах от Вяжли.
"Об Оржевке ходили бесчисленные анекдоты. Помню, между прочим, рассказ о разговоре между двумя братьями Мартыновыми. После долгого раздумья Сергей Дмитриевич обратился к старшему брату с вопросом: "Не правда ли, братец, как это странно, что все реки впадают в Волгу? Например, Цна впадает в Оку, Ока в Волгу; Ворона впадает в Хопер, Хопер в Волгу". Иван Дмитриевич был совершенно озадачен этим неожиданным открытием. Поразмыслив хорошенько, он отвечал: "Да, в самом деле, это очень странно".
О Маре таких анекдотов не бывало.
Прочее — неведомо.
ПРЕДИСЛОВИЕ к Части второй
Не ведомо — хорошее слово: оно есть не подвластное ничьей личной воле ручательство в том, что наша жизнь, несмотря ни на чье любопытство, может быть убережена от газетных дискуссий, от исследовательского ока биографов, вообще от постороннего взгляда. Как хорошо, что теряются дневники и письма, прекращая навсегда семейные разлады и любовные распри! Как грустно, когда старческая память не скупится на подробности многодавних сердечных побед и домашних неурядиц или когда осьмидесятилетние старушки публично комментируют детали любовных посвящений, адресованных им 60 лет назад знаменитыми и уже оставившими мир поэтами, а правдолюбивые журналисты беззастенчиво разъясняют жадной до интимных обстоятельств публике смысл намеков!
Словом, какое счастье, что мы знаем о Боратынских столь мало! Ибо есть события жизни, которые не к чему знать никому, кроме тех, кто в них посвящен самим исполнителем событий. Речь не о заведомо дурных делах, совершитель коих либо сам казнил их добронравием последующего своего бытия, либо, напротив, отнюдь не раскаиваясь, сознательно желал их сокрыть. Искупление подлого поступка или, наоборот, упорствование в делании подлостей — суть подробности совсем не частной жизни, ибо низость действий, как бы ничтожна ни была, адресована общему бытию. Речь — о том, что называется la vie privйe [Жизнь, сокрытая от посторонних глаз; частная жизнь (фр.).], о том, что имеет смысл только для одного, для двоих, для немногих.
Не ведая партикулярных подробностей жизни Боратынских, мы избавлены от необходимости писать хронику, а не имея привычки к замене факта вымыслом, свободны от желания сочинить роман. На нашу долю выпала истинная повесть.
Конечно, спору нет. как во всяком жанре, обращенном к жизни отдельных частных лиц, и в истинной повести главный предмет — тайны частной жизни: безумная любовь, безмерное страданье, пламенная младость, преждевременная опытность сердца, кипение свободы, уныние изгнанника, преступления и роковые их следствия, моря шум и груды скал… Но герои здесь тенью проходят сквозь сюжет, жанр позволяет утаивать, недосказывать, умалчивать. Приемы таких повестей не нами выдуманы: "Поэт выделяет… вершины действия, которые могут быть замкнуты в картине или сцене, моменты наивысшего драматического напряжения, оставляя недосказанным промежуточное течение событий… Отрывки эти объединяются общей эмоциональной окраской, одинаковым лирическим тоном". — Подобно тому, как мы не должны, живя в свете, нарушать условий света, нельзя пренебрегать вековыми привычками не нами изобретенного жанра, ибо все-таки сочинитель есть следствие существующей словесности, а не наоборот, и степень его оригинальности в том, насколько он может стать самим собой в рамках предназначенной ему жанровой роли.
У каждого времени — свои названия, свои жанры. "Войнаровский", "Борский", "Донской", "Кавказский пленник, повесть", "Корсар, повесть", "Чернец, киевская повесть", "Эда, финляндская повесть" — без этих повестей немыслимо время происшествий нашей истинной повести. И, одушевленные соревновательным пылом, мы с легким сердцем говорим: не ведомо, как в случаях вполне житейских — коли речь заходит о переездах с места на место, о датах отправки и получения писем, о времени сочинения стихов, так и когда должны обращаться к главному своему предмету — de la vie privйe. Отсутствие документальных подробностей счастливо сопрягается с благопристойными правилами жанра и позволяет отсылать читателя к сюжетам, никогда не происходившим с нашими героями, но зато многократно повторенным изящной словесностью, благодаря чему эти сюжеты служат вымышленными аналогиями тех действительных событий их частной жизни, которые мы желали бы утаить, даже если бы они были известны.
Конечно, оправдывая свое поведение доставшимся нам жанром, мы рискуем услышать упреки в самообмане, в самонадеянности или в легкомыслии…
Конечно, если не ведать о частной жизни любезных нам лиц, можно скоро выпестовать ложные о них умозаключения, и в итоге привязанность к ним, в сущности, будет родом любви к самим себе — любви не к ним, а к чувствам, ими в нас вызванным…
Конечно, нельзя сравнивать преданья старины глубокой и преданья старины недавней, ибо первые занимают ум скорее тем, какую они связь имеют с общим порядком бытия, нежели тем, какие предупреждения несут ближайшему младшему поколению…
Конечно, не будь писем, дневников, мемуаров, что стало бы с нашей памятью?.. Чьи образы она сохранила бы?..
Конечно, даже иные свойства тела — скажем, рюматизмы в ноге или склонность к головным болям — необходимо должны быть упомянуты, коли они были присущи человеку, не просто оставившему мир, но оставившему в сем мире отзвук своей душевной жизни…
Словом, противоречий очень много. Мы с любопытством рассматриваем автографы. Воображение, оживленное поэзией формулярных списков, прошений и ходатайств, навязывает истинной повести чужие жанровые привычки, склоняя ее то в область исторических реконструкций, то в область логических домыслов на счет мотивов поведения и причин желаний. Страницы, испещренные год от года портившимся почерком Аврама Андреевича и уже с юношеских лет отвратительным почерком его старшего сына, бумага, одушевленная тенями людей, выводивших теперь уже выцветшие строки, превращают сочинителя из свободного поэта в педанта, разгадывающего тайны чужой скорописи и переводящего ее в типографски набранный текст.
Но мы уповаем на память нашего жанра, теснящего все педантические выходки за пределы своих владений — в примечания — и решительно противоборствующего логическим умствованиям.
Тень есть тень: она не может нам возразить, но и не нам ее догнать.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ