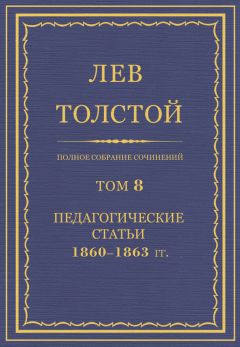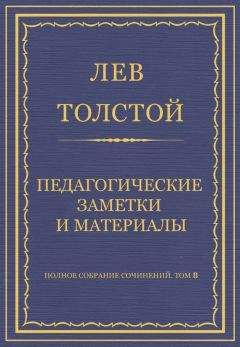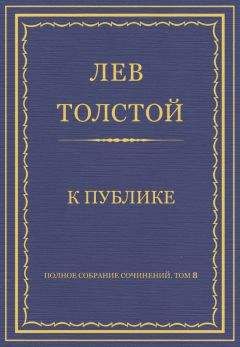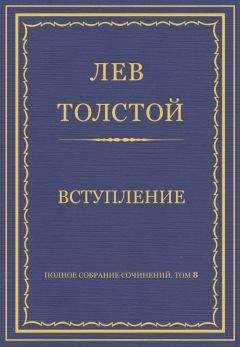Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 8. Педагогические статьи 1860–1863 гг.
Может быть, есть переходная литература, которой мы не признаем только по недостатку знания; может быть, изучение книг, ходящих в народе, и взгляд народа на эти книги откроют нам те пути, которыми люди из народа достигают понимания литературного языка.
Такому изучению мы посвящаем особый отдел в журнале и просим всех, понимающих важность этого дела, присылать нам свои статьи по этому предмету.
Может быть, причиной тому наша оторванность от народа, насильственное образование высшего класса, и делу может помочь только время, которое породит не христоматию, а целую переходную литературу, составившуюся из всех появляющихся теперь книг и которая сама собою органически уляжется в курс постепенного чтения. Может быть и то, что народ не понимает и не хочет понимать нашего литературного языка, потому что нечего ему понимать, потому что вся наша литература для него не годится, и он выработывает сам для себя свою литературу. Наконец, последнее предположение, которое кажется нам более всех вероятным, состоит в том, что кажущийся недостаток лежит не в сущности дела, а в нашей заданности той мыслью, что цель преподавания языка есть возведение учеников на степень знания литературного языка, и главное — в поспешности к достижению этой цели. Очень может быть, что постепенное чтение, о котором мы мечтаем, явится само собою, и что знание литературного языка придет в свое время каждому ученику само собою, как это мы беспрестанно видим у людей, читающих под ряд без понимания — псалтырь, романы, судейские бумаги и этим путем как-то доходящих до знания книжного языка. При этом предположении нам непонятно только то, почему появляющиеся книги все так дурны и не по вкусу народа, и что̀ должны делать школы, дожидаясь этого времени? — ибо только одного предположения мы не можем допустить, чтобы, решив в своем уме, что знание литературного языка полезно, можно бы было насильственными объяснениями, заучиваниями и повторениями выучить народ против его воли литературному языку, как выучивают французскому. Мы должны признаться, что неоднократно пробовали это в последние два месяца и всегда встречали в учениках непреодолимое отвращение, доказывающее ложность принятого нами пути. При этих опытах я убедился только в том, что объяснения смысла слова и речи совершенно невозможны даже для талантливого учителя, не говоря уже о столь любимых бездарными учителями объяснениях, что «сонмище есть некий малый синедрион» и т. п. Объясняя какое бы то ни было слово, хоть например, слово «впечатление», вы или вставляете на место объясняемого другое, столько же непонятное слово, или целый ряд слов, связь которых столь же непонятна, как и самое слово.
Почти всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученика того понятия, которое выражает слово. Слово почти всегда готово, когда готово понятие. Притом отношение слова к мысли и образование новых понятий есть такой сложный, таинственный и нежный процесс души, что всякое вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития. Легко сказать — понимать, но разве непонятно каждому, сколько различных вещей можно понимать в одно время, читая одну и ту же книгу? Ученик, не понимая двух-трех слов в фразе, может понимать тонкий оттенок мысли или отношение ее к предыдущему. Вы, учитель, налегаете на одну сторону понимания, а ученику вовсе не нужно того, что вы хотите объяснить ему. Иногда он понял, только не умеет доказать вам того, что понял вас, сам же в то же время смутно догадывается и воспринимает совершенно другое и весьма для него полезное и важное. Вы пристаете к нему, чтобы он объяснился, но ведь он словами должен объяснить то впечатление, которое произвели на него слова, и он молчит или же начинает говорить вздор, лжет, обманывает, пытается отыскать то, что вам нужно, подделаться под ваши желания или выдумывает несуществующую трудность и бьется над ней; общее же впечатление, произведенное книгой, поэтическое чутье, помогавшее ему угадывать смысл, забито и спряталось. Мы читали «Вия» Гоголя, повторяя своими словами каждый период. Всё шло хорошо до 3-й страницы, — там есть следующий период: «Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив, так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за ужином галушек, было бы совершенно невозможное дело, и потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны».
Учитель. Ну, что вы прочли? (Почти все эти ученики очень развитые дети.)
Лучший ученик. В бурсе народ обжора всё был, бедный, и за ужином уписывал галушки.
Учитель. Еще что?
Ученик (плут и памятливый, говорит, что в голову пришло). Невозможное дело, доброхотные жертвовали.
Учитель (с досадой). Надо подумать. Не то. Что же невозможное дело?
Молчание.
Учитель. Прочтите еще раз.
Прочли. Один, памятливый, прибавил еще несколько запомненных слов: семинария, прокормление зажиточных владельцев, не могли быть достаточны. Никто ничего не понял. Стали говорить совершенный вздор. Учитель пристал к ним.
Учитель. Что же невозможное дело?
Ему хотелось, чтобы они сказали, что невозможно сосчитать.
Один ученик. Бурса — невозможное дело.
Другой ученик. Очень беден, невозможно.
Снова перечли. Как иголки искали того слова, которое нужно было учителю, попадали на всё, кроме слова сосчитать, и пришли в окончательное уныние. Я — этот самый учитель — не отстал и добился того, что они разложили весь период, но поняли уже гораздо хуже, чем тогда, когда повторил первый ученик. Впрочем и понимать-то было нечего. Небрежно связанный, растянутый период, ничего не дающий читателю, сущность которого была понята сразу: народ бедный и прожорливый уписывал галушки, — больше ничего и не хотел сказать автор. Я бился только из-за формы, которая была дурна, и, добиваясь ее, испортил весь класс на целое после-обеда, погубил и перемял пропасть только что распускавшихся цветков разностороннего понимания. В другой раз я так же грешно и безобразно бился над истолкованием слова орудие, и так же тщетно. В тот же день в классе рисования ученик Ч. протестовал против учителя, требовавшего, чтобы написано было на тетрадках: Рисованье Ромашки. Он говорил, что рисовали мы сами на тетрадках, а фигуру выдумывал только Ромашка, и потому надо писать не рисование, а сочинение Ромашки. Каким образом различие этих понятий пришло ему в голову, точно так же, каким образом являются, хотя и редко, причастия и вводные предложения в их сочинениях, — остается для меня таинством, в которое лучше не пытаться проникать.
Нужно давать ученику случаи приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Раз он услышит или прочтет непонятное слово в понятной фразе, другой раз в другой фразе, ему смутно начнет представляться новое понятие, и он почувствует наконец, случайно, необходимость употребить это слово, — употребит раз, и слово и понятие делаются его собственностью. И тысячи других путей. Но давать сознательно ученику новые понятия и формы слова, по моему убеждению, так же невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия.
Всякая такая попытка не подвигает, а удаляет ученика от предположенной цели, как грубая рука человека, которая, желая помочь распуститься цветку, стала бы развертывать цветок за лепестки, и перемяла бы всё кругом.
Писание, грамматика и каллиграфия. Писание велось следующим образом: ученики выучивались одновременно узнавать и чертить буквы, складывать и писать слова, понимать прочитанное и писать. Они становились около стены, расчеркивая мелом отделы, и один из них диктовал то, что ему приходило в голову, другие писали. Ежели их было много, то они разделялись на несколько групп. Потом по очереди диктовали другие, и все перечитывали друг у друга. Писали печатными буквами и сначала поправляли ошибки неверностей складов и отделения слов, потом ошибки о — а, а потом ѣ — е, и т. д. Класс этот образовался сам собою. Каждый выучившийся писать буквы ученик бывает одержим страстью писать, и первое время двери, наружные стены школы и изб, где живут ученики, бывают исписаны буквами и словами. Написать же целую фразу (в роде того, что нынче Марфутка подралась с Ольгушкой) доставляет ему еще большее удовольствие. Чтобы организировать этот класс, учителю стоило только научить детей, как вести дело вместе, так же как взрослый научает ребят какой-нибудь детской игре. И в самом деле, — класс этот без изменений велся два года и каждый раз так же весело и живо, как хорошая игра. Тут и чтение, и выговор, и писанье, и грамматика. При этом письме достигается само собою труднейшее дело для начала изучения языка — вера в непоколебимость формы слова, не одного печатного, но и устного, своего слова. Я думаю, что каждый учитель, преподававший язык не по одной грамматике Востокова, встречался с этою первою трудностью. Вы хотите обратить внимание ученика на какое-нибудь слово — меня, положим. Вы ловите его фразу: «Микишка столкнул меня с крыльца», сказал он. «Кого столкнул?» говорите вы, прося его повторить фразу и надеясь найти «меня». «Нас», отвечает он. «Нет, как ты сказал?» спрашиваете вы. «Мы упали с крыльца от Микишки», или: «Как он то̀ркнет нас — Праскутка полетела, и я за ней», отвечает он. Вы ищете тут ваш винительный падеж единственного числа и его окончание. А он не может понять, чтобы было что-нибудь различное в сказанных им словах. Ежели же вы возьмете книжку или станете повторять его фразу, то он будет разбирать с вами не живое слово, а что-то совсем другое. Когда же он диктует, каждое слово его ловится налету другими учениками и пишется. — «Как ты сказал? как?» и ужь ему не дадут изменить ни одной буквы. При этом беспрестанно бывают споры из-за того, что один написал так, а другой иначе, и весьма скоро диктующий начинает задумываться, ка̀к сказать, и начинает понимать, что есть в речи две вещи: форма и содержание. Он скажет какую-нибудь фразу, думая только о содержании, — быстро, как одно слово, вылетит из него эта фраза. Его начинают допрашивать: как? что? — и он, сам себе повторяя ее по нескольку раз, уясняет форму и составные части речи и закрепляет их словом.