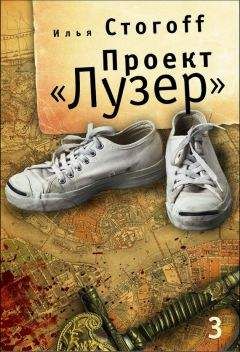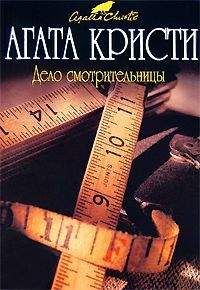Лев Толстой - Том 21. Избранные дневники 1847-1894
26 мая. Встал в 6. Шел дождь. Купался и потом пил воду. Был доктор, и был в Александровской галерее. Кончаю последнюю главу. Чувствую себя довольно хорошо, но начинают побаливать ноги и зубы. Галерея очень забавна, вранье офицеров, щегольство франтов и знакомства, которые там делаются. Морально чувствую себя хорошо. Завтра кончаю «Детство», пишу письма и начинаю окончательно пересматривать. Ложусь. 11 часов.
Встал в ½ 5. 27 мая. Обыкновенный образ жизни, утром окончил «Детство»* и целый день ничего не мог делать. Начало, которое я перечитываю, очень плохо; но все-таки велю переписать и тотчас же пошлю. Сажусь за ужин ¼ 11 и сейчас после лягу. Написал холодное и небрежное письмо Николеньке.
29 мая. Встал в 5-м часу. Обыкновенный образ жизни, здоровье нехорошо, горло болит. Ничего не писал. Хлопочу о фортепиано. Мечтал целое утро о покорении Кавказа. Хотя я знаю, что вредно для обычных занятий заноситься, не могу отвыкнуть. Мы ценим время только тогда, когда его мало осталось. И главное, рассчитываем на него тем больше, чем меньше его впереди. 20 минут 11-го, сажусь ужинать.
30 мая. Обыкновенный образ жизни; написал письмо Татьяне Александровне, которое не послал и которым недоволен. Ничего не делаю и подумываю о хозяйке. Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету. Сажусь ужинать ½ 11.
31 мая. Встал рано, пил воды, купался, пил чай и до обеда ничего не делал. Не спал; а писал о храбрости. Мысли хороши; но от лени и дурной привычки слог не обработан. Пил воды, был в веселом расположении духа. Был у меня писарь, отдал и прочел ему первую главу. Она решительно никуда не годится. Завтра переделываю вторую и, по мере того как буду переписывать, буду переделывать. […]
1 июня. Встал в ½ 5, пил воду, купался, пил чай, читал и опять ничего не делал до обеда. Толковал про всякие глупости с Буемским и имел глупость прочесть ему несколько глав из «Детства». Я вижу, что ему не понравилось; и не говорю, чтобы это было потому, что он не понимает, — просто дурно. Писец переписал 1-ю главу порядочно; а я был так ленив, что даже не приготовил в целый день следующей. Завтра переправляю с утра столько глав, сколько успею… Не спал днем; поэтому ложусь сейчас, 10 минут 10-го.
2 июня. […] Вечером читал, думал, пил дома воду, но ничего не делал. Хотя в «Детстве» будут орфографические ошибки — оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это — то, что есть повести хуже; однако я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. В последнем я еще сомневаюсь, однако. Ложусь.
10 минут 10-го.
3 июня. Встал рано, пил дома воду, вел обыкновенный образ жизни. За обедом слишком много ел, ничего не делаю, и ежели что делаю, то дурно.
[…] Замечаю в себе признак старости. Я чувствую и сожалею о своем невежестве и от души говорю фразу, которую часто слыхал от пожилых людей и которая всегда меня удивляла: «Теперь и жалею, что не учился, но уже поздно!» Грустно знать, что ум мой необразован, неточен и слаб (хотя и гибок), что чувства мои не имеют постоянства и силы, что воля моя так шатка, что от малейшего обстоятельства все добрые мои намерения разрушаются, — и знать и чувствовать, что зародыши всех этих качеств во мне есть или были и им недоставало только развития. Сколько времени я стараюсь образовать себя! Но много ли я улучшился? Пора бы отчаяться; но я еще надеюсь и рассчитываю на случай, иногда на провидение. Надеюсь, что что-нибудь возбудит во мне еще энергию и не навсегда я погрязну с высокими и благородными мечтами о славе, пользе, любви в бесцветном омуте мелочной, бесцельной жизни. Ложусь. 10 минут 10-го.
4 июня. Обыкновенный образ жизни, писал письмо с Кавказа мало, но хорошо. Чувствую себя хорошо. Я увлекался сначала в генерализацию, потом в мелочность, теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере, понимаю ее необходимость и желаю найти ее. Читал «Часы благоговения», перевод с немецкого* — книга, которую бы я прочел без внимания, или увлекся бы ей, или с насмешкой; теперь же она подействовала на меня. Она подтвердила мои мысли насчет средств к поправлению коих дел и прекращению ссор. И я твердо решился при первой возможности ехать в Россию, и coûte que coûte[14] продать часть имения и заплатить долги, и при первой встрече окончить миролюбно — без тщеславия, все начатые неприязненности и впредь стараться добротой, скромностью и благосклонным взглядом на людей подавлять тщеславие. Может быть, это лучшее средство, чтоб избавиться от моего неуменья иметь отношения с людьми. Ложусь. 40 минут 10-го. Писарь задержал. Один пьян, другой не умеет писать. Несчастие.
5 июня. […] Известно, что в целом лесу не найти двух листов, похожих один на другого. Мы узнаем несходство этих листов, не измеряя их, а по неуловимым чертам, которые бросаются нам в глаза. Несходство между людьми, как существами более сложными, еще более, и узнаем мы его точно так же по какой-то способности соединять в одно представление все черты его, как моральные, так и физические. Эта способность составляет основание любви. Из собрания недостатков составляется иногда такой неуловимый, но чарующий характер, что он внушает любовь — тоже в известных лицах. […]
7 июня. Встал в ½ 6, принял ванну, пил воду, был спокоен и здоров, переписывал и поправлял до 6 вечера, пил воду и читал апрельский «Современник», который гадок до крайности. Чувствую себя гордым, не знаю чем? Однако доволен собой морально. […]
11 июня. Мне лучше. Встал в 8, несмотря на слабость и пот, писал и поправлял. Обедал, читал «Историю» Гума Карла I*. Лучшее выражение философии есть история. Ложусь, 11-й час. Собою доволен.
15 июня. Несмотря на ветер, был в ванне. Писал. Кончил вторую часть, перечел ее и опять очень недоволен, однако буду продолжать. После обеда не писал. Купил фуражку, рахат-лукуму и спичек. Все ненужное. О паспорте не спросил. Спрошу завтра и поговорю с хозяйкой о своем корме. Ложусь, без пяти минут 11.
16 июня. Встал рано, был в ваннах, и что-то стало грустно смотреть на порядочных людей. Мне приходит в голову, что я был им. Глупое тщеславие! Я теперь порядочнее, чем когда-нибудь. […]
20 июня. Встал в восемь, пил воды, потом писал. Прибавил описание уборки* — порядочно. Ванюшка плох. Доктор был, я его не застал, он привез «Современник», в котором повесть М. Михайлова «Кружевница», очень хороша, особенно по чистоте русского языка — слово распуколка*. […]
22 июня. Встал рано, пил воды, купался. Я замечаю, что разговор начинает иметь для меня много прелести — даже глупый. Болтал с гусаром — он веневский, и с штатским, которому солгал вчера. Написал недурную главу игры, назвался к Дроздову. Обедал, спал, пил воды, был у Еремеева и Дроздова. Был застенчив, но приличен. Собой доволен. Начинаю чувствовать необходимость и желание в третий раз переписать «Детство». Может выйти хорошо.
Г-жа Дроздова, должно быть, зла, и забавно смотреть, как она боится, чтобы ее не приняли за провинциалку. Еремеев так же глуп и безалаберен, как был всегда. Забавен тем, что знает московских высших чиновников и т. д., и тем, что здешние г-да обыгрывают его, и тем, что у него есть не свои деньги и глупая жена, а я мог ему завидовать! Зинаида выходит за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня. Записался. Ложусь. 12.
26 июня. Не спал всю ночь от зубной боли. Утром весь разнемогся и немножко трухнул. Получил письмо от Татьяны Александровны, которое огорчило меня. Приготовил два письма: ей и Сереже; надо написать Беерше, Николеньке и о программах. Мечтал о своем возвращении в Россию. Уже не так радостны эти мечты, как бывали прежде.
27 июня. Встал в 8. Здоровье лучше. Писал письма Алексееву и Иславину (порядочно), отправил тетеньке и Сереже. Завтра надо написать тетушке Юшковой и Беерше. Читал Hume, писал «Детство», читал Rousseau. Были хорошие мысли, но все улетели. […]
29 июня. Встал в 9. Был доктор. Он посылает на Железноводск. Переписал последние главы. Обедал, писал, пил воды, купался и пришел домой очень слабый. Прочел «Profession de foi du Vicaire Savoyard»*. Она наполнена противоречиями, неясными — отвлеченными местами и необыкновенными красотами. Все, что я почерпнул из нее, это убеждение в небессмертии души. Ежели для понятия о бессмертии необходимо понятие воспоминания о предыдущей жизни, то мы не были бессмертны. А ум мой отказывается понять бесконечность с одной стороны. Кто-то сказал, что признак правды есть ясность. Хотя можно спорить против этого, все-таки ясность останется лучшим признаком, и всегда нужно поверять им свои суждения.