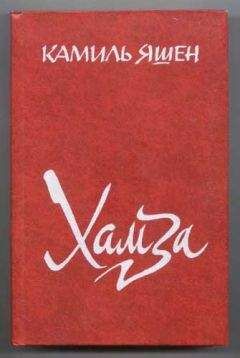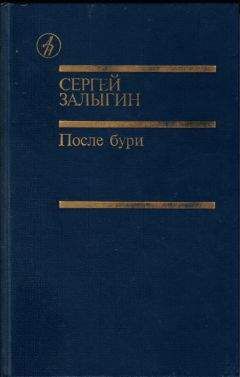Петр Краснов - Ложь
Комендант остановился против невысокого, длиннорукого парня, неуклюже одетого в солдатскую шинель. У него были курчавые черные волосы, и бледное, смертною бледностью покрытое лицо, с большими, умными черными глазами. Глаза эти то загорались мрачным огнем, то погасали, и тогда лютая тоска была в них.
– С какого года? – касаясь стиком груди задрожавшего мелкою дрожью человека, спросил Арчаков.
– Ни с какого, – последовал быстрый ответ. – Никогда в партии не был, и всею душою сочувствую добровольцам.
– Вы его, братцы, знаете?..
Красноармейцы загудели:
– Вовсе мы его не знаем…
– Никогда такого не видали…
– Откеля взялся, приблудился, не знамо, не ведомо…
– Он и на человека не похож…
– Чистый жид…
– Какой-сь то, кубыть, из скубентов…
– Ночью к нам откуда-то втиснулся…
– Наша рота пестрая, всего третий день из деревни… Мы билизованы вовсе недавно…
– Ты кто такой?
– Артист.
– И коммунист, конечно?..
Спрашиваемый пожал плечами. По его опухшему, белому лицу текли крупные капли пота:
– Ну, когда вы лучше моего знаете…
– Фамилия?..
– Бродский.
– Громкая фамилия!.. Выходи!
– Бож-жа мой!.. Да зачем я буду выходить, когда я вовсе ни в чем не виноватый? Ну, они тоже забирают. Они с ружьями, с наганами, разве я могу какое сопротивление оказывать?.. Какой я коммунист? Я даже, может быть, такой же коммунист, как и вы…
– Выходи!..
– Господин полковник! Да зачем так?.. Так, ведь, вы же белые?.. Должна же у вас быть справедливость? Вы не большевики какие-нибудь?.. Вы спросите госпожу Могилевскую, так она вам скажет, чи я коммунист, чи нет?
Арчаков еще раз внимательно, с головы до ног, осмотрел Бродского. Он колебался. В этом некрасивом, нескладном еврее не было той трусливой наглости, по которой он угадывал, всегда без ошибки, коммунистов… Большие, черные, с поволокой, глаза, южные, томные, смотрели с мучительной мольбой, и была в них какая-то уверенность в своей правоте. Эта уверенность подкупала, располагала Арчакова к Бродскому.
– Хор-рр-шо, посмотрим!.. Отведите этого субъекта в сторону, а вы, поручик, попросите сюда эту артистку, она находится в крайней хате, где командир батареи…
Уже окончен был отбор коммунистов, когда на площадь, сопровождаемая Белоцерковским, пришла Магдалина Георгиевна. Она успела переодеться в дорожное платье и, вместо шляпки, была по-крестьянски повязана белым платком. Акантов невольно залюбовался ею, и заметил, что, как только Могилевская увидела отдельно стоявшего подле часового Бродского, она побледнела сквозь румяна, и беспокойные огни загорелись в ее прекрасным глазах.
– Простите, милостивая государыня, – официально сухо обратился Арчаков к Могилевской. – Вы изволите знать этого индивидуума?..
Он подвел Могилевскую к арестанту. Они стояли в углу двора, в длинной тени от пестрого вагона с плакатами.
Прекрасное летнее утро наступило. За станцией раздавались веселые голоса добровольцев.
Воробьи чирикали в кустах жимолости станционного палисадника. Со шляха доносился железо-деревянный треск кидаемых ружей, и кто-то молодым, мальчишеским голосом, кричал:
– Девятьсот семнадцать… Здорово!.. Мальчишечка!.. Девятьсот восемнадцать… Без штыка… Ей-Богу, Артем Иванович, до тысячи наскребем…
Сильнее становился запах горелой соломы, каменного угля и нечистот.
Бродский пронзительно смотрел в глаза Магдалине Георгиевне. Та не опустила своих. Лютая ненависть и презрение были в ее прекрасных глазах. Так продолжалось несколько мгновений, показавшихся Акантову бесконечно долгими…
– Что ж?.. – наконец, задыхаясь от негодования, сказала Могилевская. – Называет себя белым!.. Х-ха!.. Я этого человека знаю… От-тлично знаю… Вы его будете судить?.. Напрасно… Таких людей не допрашивают…
– Он – коммунист?
– Господин полковник… Ну, что они говорят такого. Ну чего они могут про меня знать?.. Они же знают, что я пьянист, им на пьянино аккомпанировал. Они же меня видали, какой я коммунист? Я же белый, как чистый снег…
Магдалина Георгиевна быстро повернулась от Бродского и широкими, быстрыми шагами пошла с площади. Отойдя шагов на тридцать, она остановилась и сказала низким, густым, контральтовым голосом:
– Да, полковник, этот человек – коммунист.
Бродский стоял, низко опустив голову. Было что-то бесконечно жалкое в его фигуре. Арчаков посмотрел на Бродского, потом на Могилевскую, и строго сказал:
– Вы уверены в этом, сударыня?..
Магдалина Георгиевна снова пошла, сопровождаемая Белоцерковским. Она шла с высоко поднятой головой:
– Он предатель, – кинула она на ходу, и взяла Белоцерковского под руку.
Страшным видением показалась тогда Акантову эта женщина, быстро шагавшая мимо серой толпы красноармейцев, мимо трупов и арестованных…
И почему-то, вспоминая все это теперь, в тихую берлинскую ночь, Акантов подумал: «А ведь что-то есть общее между Могилевской и только что виденной мною Дусей Королевой…».
XVII
Днем был суд. Акантов в нем не участвовал. Триста китайцев, часть матросов бронепоезда и двадцать коммунистов, отобранных комендантом Арчаковым, подлежали уничтожению. Дело Бродского было выделено. Оно запуталось.
За завтраком, в помещении пристанционного трактира, комендант говорил Акантову:
– У меня, знаете, Егор Иванович, странное впечатление от этого жиденыша… По приказанию комиссара в Москве собирал труппу артистов для агитационного поезда южного фронта. Так ведь его заставили это делать… Я отнюдь не юдофил, но мне все говорит, что он не коммунист, а вот артисточка-то наша, от которой тут все наши без ума, наводит меня на размышления… И что-то жиденыш этот про нее знает, да пока не говорит, то ли боится, то ли жалеет ее. И, если я кого поставил бы к стенке, так это многоуважаемую Магдалину Георгиевну, а того жиденыша отпустил бы с миром. Иди и больше не греши…
– Что же постановили?.. – спросил Акантов.
– Да приказал пока посадить в подвал, до выяснения личности. И часового не приставлю. Никуда он не убежит… А показания может дать прям аховые… Ключ поручику Гайдуку передал. Мы не красные, мы должны быть, прежде всего, справедливы. Мы должны искать правду…
Расстреливали приговоренных под вечер. Заведовал этим поручик Гайдук, и в его распоряжение был назначен взвод из люто ненавидящих коммунистов людей. Это были убежденные, считавшие, что, в условиях гражданской войны, иного выхода нет. Куда же девать эту заразу?
Комендант Арчаков уехал в штаб. Отряд, занявший станцию, отдыхал, расположившись по квартирам в поселке. О красных не было слышно, и, с обычным презрением к опасности, а, отчасти, и потому, что при отряде не было кавалерии, разведки не было выслано, и охранения не выставляли. Все было тихо кругом. Занятие станции казалось отдельным, случайные эпизодом; вокруг была ровная степь, на много верст было видно кругом, и везде было пусто, и тишина могилы стояла на железнодорожных путях…
В большой зал трактира собрались офицеры отпраздновать блестящую победу. Из вагона агитационного поезда притащили пианино. Белоцерковский обещал придти с Магдалиной Георгиевной. В поселке нашелся самогон, а в броневом поезде оказались и бутылки неплохого вина; ужин готовили на славу.
Акантову волей-неволей пришлось быть на этом ужине. Его помещение было в этом самом зале.
Он сидел в углу стола, на почетном месте, рядом со своим другом, доктором Баклагиным. Он пил мало.
Шумная беседа шла кругом него. Этот ужин был оазисом среди пустыни непрерывного холода смерти постоянных боев. Каждому хотелось забыться, хотя на час одурманить себя и уйти от пережитых волнений и ужасов.
Давно не видели женщин. Артистка, появившаяся снова в русском сарафане, в кокошнике, расшитом стекляшками, с подмазанными щеками, подведенными глазами, нарумяненная и набеленная, показалась изумительно красивой. Все было к ее услугам. Каждый старался ей угодить.
Но уже ходили среди офицеров слушки, что артистка-то она артистка, и, говорят, первоклассная, но зачем же была она у красных? И сосед тихо шептал на ухо соседу: «А что, как эта прелестная Магда и точно коммунистка?».
И, возможно, что слушки эти дошли до самой Магдалины Георгиевны. Она вдруг встала и сказала прекрасным, звучным и задушевным голосом:
– Господа!.. Все-таки… чувствую… странно вам… Вчера вечером сидела с красноармейцами… с комиссарами… с лютыми врагами вашими… – Магдалина Георгиевна обвела томными глазами офицеров, тяжело вздохнула, и сказала с видимым отвращением: – с чекистами!.. Сегодня сижу с вами… Артистка… Много этим сказано… Я пела и декламировала перед Государем Императором… Я обожала Государя… молилась на него…
Несказанно тепел, чист, ясен и красив стал ее прозрачный, низкий голос. Он шел к сердцу.
Осоловелые от усталости и от вина, добровольцы подняли головы, и глаза их прояснились.