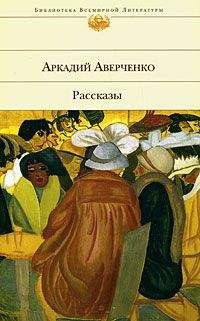Валентин Катаев - Трава забвенья
Казалось бы, что за дело было всем этим людям, сидящим в разгар революции в осажденном городе, в холодном полупустом и дурно освещенном зале, до судьбы опустившегося пьяницы-капитана и его собаки Чанга, купленной в "пыльный и холодный день на широкой китайской реке" и привезенной потом на пароходе в Одессу?
Однако они просидели не шевелясь все сорок пять минут чтения, завороженные музыкой этой картинной симфонической прозы с ее перепадами ритма, синкопами и фразами, подобными мрачным аккордам, взятым руками великого органиста:
"...И вдруг распахивается дверь костела - и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, - точно две сестры разных возрастов, - а надо всем этим - гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением..."
Звучащее видение!..
Лишь один раз, на миг, отвлеклись слушатели от "Снов Чанга", когда за окнами, в черной бездне осажденного города, послышалась короткая пулеметная очередь, взрыв ручной гранаты-лимонки и чей-то голос негромко произнес в середине зала:
- Господа, по-моему, это стреляют на Малой Арнаутской...
В эту ночь я провожал Бунина по темному, зловеще притихшему городу. Бунин был, как мне казалось, недоброжелательно молчалив. Желая его отвлечь от тяжелых мыслей, я все время делал попытки сказать ему что-нибудь особенно для него приятное.
- Иван Алексеевич, вас, вероятно, много переводили на иностранные языки?
- Боже мой!.. - раздраженно ответил он. - Ну, посудите сами: у меня, например, один рассказ начинается такой фразой: "На фоминой неделе в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда..." Попробуйте-ка это сказать по-английски или по-французски, сохранить музыку русского языка, тонкость пейзажа... "В ту прелестную пору, когда..." Невозможно! А что я стою без этого? Нет, меня очень мало знают за границей... как, впрочем, и у нас в России, - с горечью прибавил он.
Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живется, а как только надоест - отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки - то же самое. В чемодане же - записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык.
- Вроде вашей пепельницы?
- Именно.
Он говорил в шутливом тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды.
На меня производило впечатление, что Бунины всегда живут как бы на бивуаке, среди чужой мебели, чужих квартир, драпри, посуды, ламп. Своего у них было лишь одежда, да постели, да пара плоских кожаных английских чемоданов с наклейками заграничных отелей.
Кстати, об этих наклейках.
* * *
Однажды Бунин на мой вопрос, к какому литературному направлению он себя причисляет, сказал:
- Ах, какой вздор все эти направления! Кем меня только не объявляли критики: и декадентом, и символистом, и мистиком, и реалистом, и неореалистом, и богоискателем, и натуралистом, да мало ли еще каких ярлыков на меня не наклеивали, так что в конце концов я стал похож на сундук, совершивший кругосветное путешествие, - весь в пестрых, крикливых наклейках. А разве это хоть в малейшей степени может объяснить сущность меня как художника? Да ни в какой мере! Я - это я, единственный, неповторимый - как и каждый живущий на земле человек, - в чем и заключается самая суть вопроса. Он посмотрел на меня искоса, "по-чеховски". - И вас, милостивый государь, ждет такая же участь. Будете весь обклеены ярлыками, как чемодан. Попомните мое слово!
У него была полная возможность много раз уехать из опасной для него Одессы за границу, тем более что - как я уже говорил - он был легок на подъем и любил скитаться по разным городам и странам. Однако в Одессе он застрял: не хотел сделаться эмигрантом, отрезанным ломтем; упрямо надеялся на чудо - на конец большевиков, погибель Советской власти и на возвращение в Москву под звон кремлевских колоколов. В какую? Вряд ли он это ясно представлял. В прежнюю, привычную Москву? Вероятно, поэтому он остался в Одессе, когда в девятнадцатом году, весной, она была занята частями Красной Армии и на несколько месяцев установилась Советская власть.
К этому времени Бунин был уже настолько скомпрометирован своими контрреволюционными взглядами, которых, кстати, не скрывал, что его могли без всяких разговоров расстрелять и наверное бы расстреляли, если бы не его старинный друг, одесский художник Нилус, живший в том же доме, где жили и Бунины, на чердаке, описанном в "Снах Чанга", не на простом чердаке, а на чердаке "теплом, благоухающем сигарой, устланном коврами, уставленном старинной мебелью, увешанном картинами и парчовыми тканями...".
Так вот, если бы этот самый Нилус не проявил бешеной энергии телеграфировал в Москву Луначарскому, чуть ли не на коленях умолял председателя Одесского ревкома, - то еще неизвестно, чем бы кончилось дело.
Так или иначе, Нилус получил специальную, так называемую "охранную грамоту" на жизнь, имущество и личную неприкосновенность академика Бунина, которую и прикололи кнопками к лаковой, богатой двери особняка на Княжеской улице.
...К особняку подошел отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела. Увидев в окно синие воротники и оранжевые распахнутые полушубки, Вера Николаевна бесшумно сползла вдоль стены вниз и потеряла сознание, а Бунин, резко стуча каблуками по натертому паркету, подошел к дверям, остановился на пороге как вкопанный, странно откинув назад вытянутые руки со сжатыми изо всех сил кулаками, и судороги пробежали по его побелевшему лицу с трясущейся бородкой и страшными глазами.
- Если хоть кто-нибудь осмелится перешагнуть порог моего дома... - не закричал, а как-то ужасно проскрежетал он, играя челюстями и обнажив желтоватые, крепкие, острые зубы, - то первому же человеку я собственными зубами перегрызу горло, и пусть меня потом убивают! Я не хочу больше жить!
Мне тут же вспомнились строки его стихов:
"...Веди меня, вали под нож в единый мах - не то держись: зубами всех заем, не оторвут!"
И я ужаснулся.
Но все обошлось благополучно: особисты прочитали охранную грамоту с советской печатью и подписью, очень удивились, даже кто-то негромко матюкнулся по адресу ревкома, однако не захотели идти против решения священной для них Советской власти и молча удалились по притихшей, безлюдной улице мимо еще по-зимнему сухих стволов белой акации с грубой черно-серой корой, в глубоких трещинах которой угадывалась нежная лубяная желтизна.
* * *
В продолжение всей этой сцены я смотрел на улицу в окно, так что между моими глазами и отрядом особистов находился большой наружный термометр с шариком ртути, в котором лучисто отражалось уже почти по-весеннему яркое, но все еще немного туманное солнце.
И вдруг я снова увидел и сразу узнал ее, ту самую девочку с дачи Ковалевского, которую описывал по совету Бунина пять лет назад.
Теперь ей было лет семнадцать; она стояла среди матросов и солдат, читая охранную грамоту, в распахнутом армейском полушубке и белом сибирском малахае, отодвинутом с оливково-смуглого, вспотевшего лба на затылок. Она держала в маленькой крепкой руке драгунскую винтовку, и ее зубы были стиснуты, подбородок выдавался вперед, как башмак, а на темном лице лунно светились узкие, злые и в то же время волшебно-обольстительные глаза.
Наши взгляды встретились, и она погрозила мне - враждебному ей, незнакомому молодому человеку, находящемуся в квартире контрреволюционера Бунина, - своей ладной короткой винтовочкой.
И мы снова ненадолго потеряли из виду друг друга, а жизнь, на миг превратившаяся в страницу Гюго, опять потекла своей чередой.
Удивительно, что когда вскоре я встретил ее снова, то узнал не сразу.
"Начался трудовой, организационный период", - писал я по горячим следам событий.
"Всем оставшимся в городе новая власть большевиков предоставила право собираться и коллективно обсуждать устройство своей жизни. В большом, очень - как мне тогда представлялось - изящно отделанном зале так называемой "Литературки", где еще так недавно лакеи во фраках прислуживали эстетам в бархатных куртках и актрисам с разрисованными глазами, теперь стояли рыночные стулья и принесенные из дворницкой скамейки, на которых сидели взволнованные, выбитые из привычной колеи люди, главным образом беженцы с севера. Они должны были определить свое отношение к Советской власти, наконец-то настигшей их на берегу Черного моря".