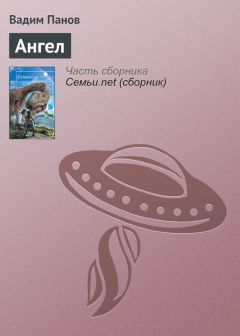Иван Лажечников - Беленькие, черненькие и серенькие
— Не за делом ли? — спросил Пшеницын. (А случались у них дела по караванам, проходившим в уезде.)
— Нет, братец.
Помолчали.
— А закусить… будет?
Подали закуску: икры, пирог, ветчины окорок, холодного поросёнка, холодной телятины, копчёного гуся и графин ерофеичу[221]. Будто голодный боа[222], глотал гость куски полного блюда в ужасающих размерах; к концу закуски графин был пуст. Это упражнение продолжалось с полчаса: изредка только кряхтел и пыхтел он, как иногда мужик, когда рубит очень твёрдое дерево, кряхтит, чтобы придать себе силы. Наконец Трехвостов встал, молча обнял Максима Ильича, опять с тою же процедурой подошёл к ручке Прасковьи Михайловны, взял свою шапку, в виде башни, и вывалился в переднюю. Влез было он в своего медведя — да вдруг ударил себя широкою ладонью по лбу, сбросил медведя и воротился.
— Забыл.
— Что такое? — спросил Максим Ильич.
— Прошу… завтра… на свадьбу, Прасковью Михайловну… посажёной матерью[223]. Удостойте. My!..
— К кому ж? — спросила она.
— Вестимо, ко мне… к моей невесте, гм!
— По нашему обычаю, должен об этом просить ближний родственник невесты.
— Какие родственники!.. (Тут он махнул рукой.) Знаете Палашку?
Максим Ильич знал под этим именем у Трехвостова довольно красивую девку или женщину средних лет. Она являлась для прислуги перед очами приезжих гостей босиком, но в черевиках[224], с ситцевым платком на голове и такой же материи шалью, которою крест-накрест покрывала грудь и опоясывала себя так, что назади торчал горбом огромный узел с длинными концами. Иногда Пшеницын видал её с подбитым глазом и волосами, причёсанными в подозрительном беспорядке. Вследствие этих соображений, он видимо смутился и не знал, что отвечать. Но Трехвостов и не дал ему этого труда и опять спросил:
— Видал ребятишек? (Тут указал он на переднюю.) Один здесь… Накормили ли его?
— Накормили, — сказал Ларивон, прибиравший опорожненную после закуски посуду.
— Ладно.
Максим Ильич опять не отвечал. Он также видал у Трехвостова двух дворовых мальчиков, лет тринадцати и одиннадцати, которые за столом бойко подавали и принимали тарелки. Трехвостов опять не дождался ответа и продолжал. На этот раз он разлился таким потоком слов, какого Пшеницын не слыхивал с первого знакомства с ним.
— Проворные ребята!.. Третий пищит ещё в люльке. Три девки… две уж славно шьют в пяльцах. И баба служила мне верою и правдой. Сколько побоев от меня приняла! Признаюсь, братец, больно горяч, таким матушка уродила!.. жаль их! Хочу всё венцом прикрыть. Неравно карачун…[225] отнимет деревню мерзавец брат, му!.. останутся без куска хлеба, да ещё, чего доброго! в крепость возьмёт…[226]
— Доброе дело, — сказала жалостливо Прасковья Михайловна, у которой навернулись слёзы при этом рассказе. — А свадьба неужели завтра?
— Завтра, спешу. Вот видите, шея коротка (тут он щёлкнул себя по шее пальцами); подчас бьёт в голову, будто молотом кто тебя ударит… наклонен к пострелу[227].
— Как же, — спросила Прасковья Михайловна, — чай, и приданого не успели приготовить?
— Есть праздничное тряпьё.
— Как же это можно? Всё-таки съедутся у вас дворяне на свадьбу… Жена исправника… И в церкви от прихожан будет стыдно. Позвольте мне самой снарядить невесту. У меня есть платья два-три — новёхоньки… надевала только по разу… Кое-что из уборчиков ещё привезу.
Трехвостов, вместо благодарного ответа, молча поцеловал у Прасковьи Михайловны руку, на которую упала слеза, как она всегда падала — из больных глаз его. И опять влез он в своего медведя, и опять занял им пошевни во всю ширину их, и опять мальчик в новом нагольном тулупчике бойко вскочил на сиденье, рядом с кучером.
Проводив гостя, долго ещё сидел Максим Ильич на одном месте в раздумье о семействе Трехвостова и его свадьбе. Чтобы освободиться от гнёта этих мыслей, он принялся читать «Жизнеописания великих мужей» Плутарха (чьего перевода, теперь не припомню)[228]. С своей стороны, Прасковья Михайловна думала только о той роли, которую будет играть посажёною матерью, и о том, чтобы одеть завтра невесту в лучшие свои наряды. Началась выборка их из сундуков и раскладка по стульям, диванам и кроватям. Часто отрывала она Максима Ильича от чтения расспросами, какого цвета волосы и глаза у невесты, какого роста, худа или дородна. Эти занятия наполнили весь день и захватили половину ночи. Об еде она забыла; только перехватила кое-что на лету.
Мы было забыли сказать о том, что случилось с Ванею в то время, когда сидел гость у отца его. Он приходил в переднюю посмотреть на мальчика в новом тулупчике. Мальчик был очень хорошенький и с такою заманчивою, грустною улыбкой смотрел на барчонка, что тот поддался этой привлекательной наружности и посягнул было на приглашение играть с ним в снежки на дворе. Но Ларивон, вышедший в это время в переднюю, пресек разом это желание, покачав очень серьёзно головой. Ваня догадался, что ему неприлично связываться с дворовым мальчишкой. Услыхав, что стучат в гостиной тарелками, попросил он дядьку накормить маленького слугу. «Господа едят, и слуга, чай, хочет тоже кушать», — говорил он. Между тем, пользуясь новым отсутствием своего ментора, стал любоваться чёрным пушистым волосом медведя, ласкал его своею ручонкой и называл хорошеньким, добрым Мишей. Мальчик в тулупчике сделался смелее, выворотил рукав шубы, накрыл им лицо своё и осторожно, на приличном расстоянии, подходил к Ване, приговаривая: «У! у! медведь — съест». Но, видя, что тот не боится медведя, а только смеётся, схватил его с недетскою силой в охапку, посадил на скамейку и закутал в огромную шубу так, что из неё было видно только горящее лицо малютки, окаймлённое чёрною, густою шерстью ужасного зверя. В этих новых забавах накрыл их опять Ларивон, но на этот раз отвёл своего питомца в другую комнату, велел ему смирно сидеть на стуле и сказал с педагогическою важностью: «В этакую шубу зарылись! Бог знает, где валялась, да и грехом воняет…»
Тут Ларивон, для вящего подкрепления своих наставлений, не преминул плюнуть.
Отчего грехом воняет, рассказал после дядька. Богатая эта шуба была подарена Трехвостову купцом, чтобы он показал, что у него потонула барка с казённым провиантом, а провиант был заранее продан в соседние прибрежные деревни. Понятые, как водится, получили ведёрка два вина, и прочее, и прочее. «Грех великий! — говорит Ларивон, — не скоро отмолить его этому богопротивному человеку».
Свадьба действительно состоялась на другой день. Невеста, по милости Прасковьи Михайловны, была разряжена в пух и блаженствовала. Казалось, она помолодела десятью годами. И как не радоваться ей было? Она делалась свободною, дворянкой; существование её и семьи было навсегда обеспечено. За свадебным обедом сидело человек двадцать дворян. Сам предводитель Подсохин был приглашён, но не удостоил приехать. Это обстоятельство нагнало лёгкую тучу на пирующих; задумался и Трехвостов. На другой день, когда подали ему медвежью шубу, он, неизвестно почему, оттолкнул было её от себя и надел с сердцем. Несколько дней медведь тяготил его могучие плечи, как будто живой зверь сжимал его в своих лапах. Взглянул он на своих детей, погладил одного и другую по голове, поцеловал малютку в люльке, сквозь слёзы улыбнулся жене, махнул рукою, и снова медведь сделался для него лёгок, как и прежде. С того времени бывшая Палашка, ныне Палагея Софроновна, никогда не была бита.
По поводу ли медвежьей шубы, под которою скрывалось нечистое дело, не приехал щекотливый в деле чести предводитель, или по другой причине, неизвестно. Но как мы о нём заговорили, то и остановимся несколько на его замечательной личности.
Это был один из достойно уважаемых дворян того времени, человек беленький, с которых сторон ни посмотреть на него. Редко в ком можно было найти соединение такой чистоты нравов с таким прямодушием, честностию и твердостию. Он всегда думал не только о том, что скажут о нём при его жизни, но и после смерти. Молодость провёл он в морской службе, делал несколько кампаний, был офицер ретивый и исполнительный и так же требовал строгого исполнения своих обязанностей, как и сам исполнял их. Хозяйство, порученное ему на корабле, шло как нельзя успешнее — не для него, но для всей команды. Он не имел привычки извлекать свои выгоды из общественных или казённых сумм и приобрёл для себя только имя прекрасного эконома — разумеется, в хорошем смысле. Обстоятельства потребовали, чтоб он вышел в отставку. Его призвали к домашнему очагу мать, молодая жена, трое детей и сестра, которых обязан он был содержать от небольших деревушек в холоденском уезде, а имение это под слабым, может быть, бестолковым, женским управлением начинало расстроиваться. Взяв в твёрдые и искусные руки руль хозяйства, он в несколько лет успел привесть своё и женино имения в цветущее положение и удвоил доходы без отягощения крестьян.