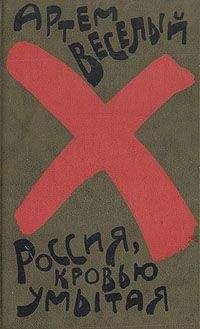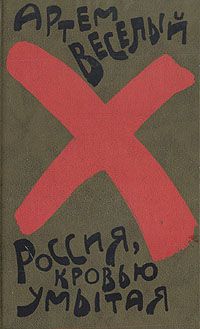Артём Веселый - Россия, кровью умытая (сборник)
Мутнёхонька, быстрёхонька бежит-гремит Кубань-река, а впристяжку с ней ухлёстывают люты речки горные, стелются протоки малые. Шумные станицы да сытые хутора – всеми тополями своими, ветряками, садами, столетними дубами и сонными волами – смотрелись в быстрые воды Кубани.
С году на год станицы отстраивались церквами, каменными домами, паровыми мельницами, маслобойными и шерстобитными заводами. Из края в край шумели богатые ярмарки, лавки ломились от купецкого добра, ссыпные лабазы и элеваторы под горло были набиты хлебом, целые реки кубанской пшеницы текли на рынки Европы и Азии. С осенних заморозков до Великого поста от Тамани до Каспия по широким шляхам тянулись чумацкие обозы: гам, песня, хлопанье кнутов, в ярмах качались круторогие воловьи головы, стонали тяжелые возы, груженные зерном, рыбой, солью, строевым лесом, сапожным и щепным товаром.
Полыхали зимы морозами.
Вьюга несла со степи снежные знамена. Заметенные буранами станицы отгуливали свадьбы, крестины, именины и престольные праздники. В жарко натопленных светлицах прогуливали ночи напролет, ели невпродых, пили вина своей давки, распевали старинные и войсковые песни, до седьмого пота плясали прадедовские – времен Запорожья – лихие пляски.
А там прилетала и весна, ласковая да горячая.
Курганы первыми освобождались от зимнего плена. Одряхлевшие снега, покрываясь мертвенной синевой, прятались под кусты, сползали в овражки, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам зима облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыплет поле, тут заметет мокрым снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья… Но лишь проблеснет заря и брызнут искры рассвета, зимушка без оглядки пускается в бегство – вдогонку ей несутся птичьи щебеты, горланят петухи, и солнце мечет блещущие копья. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать стайки жаворонков, этих отважных разведчиков грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки. Мелкие степные зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около своих нор. Зима в страхе пятилась, отступала в горы, на коренное становище, и отсюда – взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных мартовских метелей – с воем кидалась зима в битву на равнины, и тут бесславно гибла разорванная в клочья и пену хладная сила. Корежило, ломало льды, трещали льды, всплывали льды, поднятые талою водою. Озера и лиманы, дрогнув первой свинцовой рябью, распахивали объятия свои навстречу весне. Разливалась Кубань. Взыграв, рвала Кубань берега, выметывала зелены острова, легко несла пышные воды свои. Выпущенные из птичников, гуси и утки срывались, летели на большую воду – из-за птичьего гогота и кряка не слышно было человечьего голоса. Застоявшаяся за зиму скотина, задрав хвосты, выносилась за околицу, на желанное приволье – ржанье, рев, блеянье, – всяк язык славил весну-красну.
Хороши, горячи кони, мчащие весну.
Над степью, охраняя ее покой, стлались ветра-зимогоны. Синё дымилась, подсыхала степь. Станичник, помолясь, выезжал на пашню.
Неделя, другая – и вот уже залило степь от края до края зеленью всходов да сивыми ковылями.
Радостным цветом зацветали сады, обрастали сады зелеными шкурами.
Реки и озера кипели рыбой, сети не держали рыбы.
Ребятишки, на ходу сбрасывая штаны и рубахи, с криком: «Купа вода жара взяла!» – кидались с крутояра в разливы…
С давних пор с первым теплом из глубин России взмывали, как стаи голодных грачей, и тянулись на Дон да Кубань ватаги жнецов и косцов. В изодранных зипунах, в широких пестрядинных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они шли и шли, мерли на дорогах, тысячами гибли в холерных бараках, но живые были упорны в своем стремлении и, дорвавшись до хлебных мест, пускали корень и оставались тут жить: нанимались в табунщики и пастухи, в Приазовье пополняли рыбачьи артели, из пришлой голытьбы создавались кадры батраков и ремесленников, торговцев и земледельцев.
Станичники выезжали на покос целыми семьями – с бабами, ребятишками, принанятыми работниками. Кругом, насколько глазу хватало, расстилались зреющие нивы да травы в человеческий рост. Стальным клекотом стрекотали косилки, подпряженные парою, а то и тройкой взмыленных лошадей. В траве блистали освистанные косы, взмокшие линючие рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами горьковатый дым костров плыл над степью, под самые звезды взлетала молодая песнь.
К Петрову дню степь брунела. Стеной вставали хлеба – каленый колос, наливное зерно. Солнце обдавало степь потоками огня. Марево, мгла, жарко дышала онемевшая от зноя степь.
В долинах, в горячем затишье вызревал табак.
Арбузы и дыни были накатаны на бахчах, будто бритые головы на древнем поле битвы.
Садовые деревья ломились под тяжестью плодов.
На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.
Девки рано наливались, созревали для любви.
Степь родила хлеб.
Бабы рожали крепкомясых детей.
Пчелы лили медовый дождь, виноград наливало светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.
Богатый край, привольная сторонушка…Станица уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой – мужики.
На казачьей стороне – и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой высокий берег, на котором по праздникам играл духовой оркестр, а вечерами собиралась гуляющая и горланящая молодость. Белые хаты и богатые дома под черепицей, тесом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садочков и акаций. Большая вешняя вода приходила к казакам в гости, под самые окна.
Мужичья сторона полой водой затоплялась, отчего всю весну жители нижней улицы по уши тонули в грязи. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышовыми плетнями подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом, шумя как море, к самым дворам подступали хлеба. Садов мужики не разводили, считая это дело баловством. Перед хатами лишь кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее, и бабьи наряды скромнее, и хлеб мужики ели простого размола, да и то – многие – не досыта.
Из хороших книг и грошовых книжонок давно известно, что казаки почитали себя коренными жителями, на пришлых с Руси иногородних людей посматривали косо, редко роднились с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем.
Так оно и было.
Вражда велась издавна.
В описываемой нами станице кладбищ и то было два: казачье – с чугунными решетками и высокими, кованными из витого железа крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев; по неогороженному мужичьему кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы – купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей же свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.
На крутом берегу Кубани, глазами на реку, стоял крытый железом каменный дом старожилого казака Михайлы Черноярова.
Славились Чернояровы крепким родом, конями, доблестью и богатством.
Михайле перевалило за шестой десяток, но еще горячи были его глаза, и еще несокрушимой он обладал силой. Темной дубки крупное лицо его было похоже на лоскут заскорузлой кошмы. Русая с прочернью борода расстилалась по могучей, будто колокол, груди. Из-под обкуренных дожелта усов сверкали в усмешке белые как кипень и целые все до единого зубы. Высоко поднятую голову – с подрубленным в скобку волосом – крыла форменная с захватанным козырьком фуражка. В старом, дозелена выгоревшем чекмене, туго перетянутый наборным поясом, спозаранок он расхаживал по двору, присматривал за работниками, снохами, внуками, всем находя дело и всех разнося за нерасторопность. В неположенное время никто из домашних не смел при нем засмеяться или сесть без разрешения. В свободный час Михайла запирался в угловой полутемной комнатушке, куда доступ бабам был запрещен, и нараспев – в четь голоса – читал Библию, водя по строке перешибленным когда-то черкесской пулей и криво сросшимся пальцем. Порою тень глубокой думы набегала на его чело, и на пожелтевшую рябую страницу святой книги огненная падала слеза. Из глубокого кармана шаровар старик доставал окованную серебром трубку и заряжал ее целой горстью выдержанного по вкусу домашнего табаку. Курил, читал, вздыхал, вспоминая службу, походы и молодость свою, раздумывая о судьбах казачества и земли русской…
Вырос, да и всю лучшую пору жизни своей Михайла не слезал с коня. Он помнил Хивинский поход и последнюю, 1877–1878 годов, турецкую войну. Афганский, глухих тонов, ковер – память о Хивинском походе – и посейчас украшал стену его комнатушки. А в турецкий год с ним приключилась история, которая стоит того, чтобы о ней хотя и коротенько, но рассказать. Под Златарицами из самого пекла рукопашного боя Михайла выхватил арабского скакуна – да такого! – какой и во сне не всякому приснится. На бивуаке станичники гурьбою пришли любоваться добычей. Самый старый в полку казак, Терентий Колонтарь, провел араба в поводу, осмотрел его зубы и носовые продухи, ощупал бабки, коленные чашки и подвздошные маслаки да сказал: