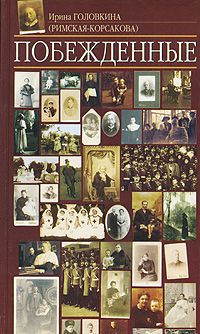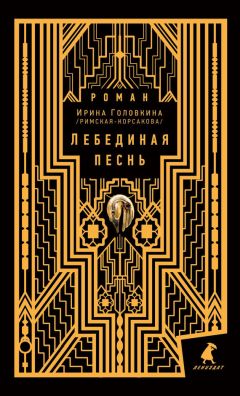Ирина Головкина (Римская-Корсакова) - Побеждённые
— Нет ли здесь Нелидовой Елены?
Леля едва не задохнулась от неожиданности.
— Здесь, здесь! Кто спрашивает? Кто? — но сама уже безошибочно знала кто!
— Это я — Вячеслав. Кукушечка родненькая, так ты здесь же! Здорова ты, Аленушка?
— Вячеслав! Спасибо за сапожки, за все! Неужели увидимся? Почему вы… за что же вас-то?!
Но ответа она не получила: послышались ругань и угрозы надзирателей. Мужчины смолкли. Около Лели мгновенно образовался кружок — сколько рук протянулись к ней!
— Кого вы встретили? Кто это? Жених? Брат? — спрашивали ее.
— Он любил меня, а я отказала! — отвечала она сквозь лившиеся слезы. Она даже не удивилась его «ты» — он показался ей совсем родным сейчас! Еще недавно хотелось счастья необычно яркого, особенного, и ни тот, ни другой, ни третий не удовлетворяли требованиям: один недостаточно интеллигентен, другой недостаточно эксцентричен, третий недостаточно изящен! А вот теперь каким блаженством показалась бы ссылка на вольное поселение с этим самым Вячеславом! Он бы оберегал ее, делил с ней все трудности, а по ночам обнимал и нашептывал, что лучше ее нет девушки на свете и что за ее локоны отдаст жизнь! И опять все мысли ее и чувства попали на знакомое острие.
В Свердловске надежды Лели на хороших подруг по несчастью рухнули всех разбросали по разным камерам, перемешав с уголовниками и бытовиками.
На следующий день Леля впервые познакомилась с баней (на Шпалерной ее, как сидевшую в одиночке, в общую баню не допускали). Порядки советской этапной бани были весьма странные: заключенным женщинам вменялось в обязанность, стоя обнаженными, вручать свои вещи с рук на руки мужчине, дежурному по бане; несколько других мужчин ходили тут же взад и вперед в качестве надсмотрщиков. Леле, которая не привыкла обнажаться даже при посторонних женщинах, было очень нелегко подчиниться порядку, который как будто целью своей ставил добить всякую щепетильность и стыдливость.
В пути были еще несколько дней; поезд шел теперь гораздо скорее и на запасных путях не стоял вовсе. Догадывались, что попали в Сибирь. Тысячи и тысячи километров от дому… а впрочем, у неё теперь нет дома! Наконец, прозвучала команда: «Выходи с вещами! Стройся!»
Окруженные конвойными и собаками, двинулись в тайгу пешим строем по широкому тракту при позднем зимнем рассвете. Вокруг высились обледенелые ели и сугробы снега; новые сапожки очень выручали, нос прятался в оренбургский платок; шли по четыре в ряд.
С рук соседки выглянуло из-под шерстяных косынок младенческое личико, а потом вывернулась и крошечная ручка. Леля несколько раз озиралась на эти сияющие глазки и растянувшийся до ушей ротик.
— Сколько ему? — спросила она и встретила взгляд молодой женщины, кутавшейся в старый офицерский башлык, такой же, в какой, бывало, куталась сама Леля.
— Полгодика ему, а второй на обозе едет — тому уже три.
— Вы по пятьдесят восьмой? — спросила Леля.
— По какой же еще? Сестра мужа вышла за английского посла, бывала с ним у нас… Вот и вся моя вина! — горько усмехнулась женщина. — Не знаю, что с детьми будет… Уверяли меня, что определят их в ясли при лагере и будто бы позволят мне их навещать, но… боюсь подумать, что впереди…
— А может быть, и в самом деле позволят? — сказала Леля. — Вот бы нянями устроиться туда и вам и мне!
— Руки затекли, — шепнула молодая мать, перекладывая живой пакетик.
— Дайте его мне, вы устали. Он мне крестника моего напоминает. — И Леля приняла на руки этот маленький движущийся клубок. До сих пор она еще никогда не делала первой попыток к сближению и попала в струю теплой симпатии неожиданно для себя; симпатии, вызванной, может быть, только тем, что рядом женщина ее круга и ее лет.
— Агунюшка, маленький! Люли-люленьки, прилетели гуленьки! Молочка-то тебе хватает? А мой крестник вырастет без меня, и когда я вернусь (если вернусь!), я для него буду чужой, ненужной, лишней!..
Шли, шли, шли… Усталость нарастала, и всякая восприимчивость понемногу притуплялась. По-видимому, был отдан приказ дойти прежде сумерек до места назначения — остановок не делали и торопили колонну.
Ежеминутно раздавались окрики конвоя:
— Не отставай, смотри! Равняйся, не то собак спущу! Кто там сел? Подымайся! Шутить не буду — живо овчаркой затравлю!
Бросалась в глаза фигура уже пожилой художницы на костылях — она была поставлена впереди и возглавляли шествие! Молодая мать уже давно взяла обратно ребенка и, изнемогая от усталости, начала отставать, а Леля думала теперь уже только о том, чтобы самой не упасть в снег.
Внезапно один из конвойных приблизился и, не говоря ни слова, ловким ударом приклада выбил ребенка из объятий матери и отшвырнул ногой в канаву! Это не приснилось, не померещилось — это в самом деле было. Как могли они молча пойти дальше? Но они пошли после короткой сумятицы, когда на остановившийся ряд натолкнулись шедшие сзади… Угрожающие крики конвойных в одну минуту навели порядок. Снова пошли!
И это уже был сон — иначе как жить после того, что произошло?! И Леля уверяла себя, что это сон — ведь все кругом расплывается и кружится, как во сне. Значит, сон, и ребеночек той женщины на самом деле жив.
Какую кашу дадут на остановке?.. В канаве… ему холодно… маленькие ручки синеют… он не сразу умер: он замерзает… может быть, ищет губками грудь… Если и Асе придется идти так… и тоже с двумя младенцами… тогда…
Нет, это не сон. Леля отважилась, наконец, обернуться на свою соседку — та брела, спотыкаясь, с низко опущенной готовой. Леля подхватила ее под руку.
— Не дойдет! — сказал кто-то из соседнего ряда. — Попросите начальника этапа посадить ее на сани. Он все время разъезжает верхом туда и обратно.
Леля взглянула на верхового, маячившего во главе колонны, и выбралась на обочину под руку с новой подругой, которая припала головой к ее плечу. Колонна растянулась версты на две и вьется по ледяной дороге; люди еле волочат ноги, кто в шинели, кто в меховой шубе, кто в тулупе, а кто так просто в одеяле. Вот послышался злобный храп и повизгивание — с ними поравнялся отряд овчарок; человек, державший вожжи, обернулся на двух женщин:
— Чего стоите? Кто вам разрешил выйти из ряда?
— Мы ждем начальника этапа, — ответила Леля.
— Стоять у дороги не положено! Какого еще тебе начальника? Пошла на место! Живо!
— Вы — командующий собачьим отрядом, а я хочу говорить с командующим этапом, — ответила Леля.
— Я те покажу командующего собачьим отрядом! Отведаешь сейчас у меня! — и наклонился спустить собаку…
Леля вскрикнула и в ужасе ринулась к своему месту. Две озлобленные морды с высунутыми языками, с оскаленными зубами уже отделились от стаи, вот они уже настигают…
Она не помнила, как попала на свое место и кто удержал собак, которые могли разорвать ее; одна пасть успела схватить ее за голень, другая задела щиколотку… Она не чувствовала даже боли и только тряслась, как в ознобе.
— Этим людям позволено все! Поступить так на глазах всего этапа может лишь тот, кто заранее уверен в полной безнаказанности, — произнес кто-то около неё. Молодой соседки уже не было рядом — положили ли ее на сани, приткнули ли в другое место или разорвали собаками, Леля не знала. Навязывалось в память что-то хорошо знакомое с детства… что-то страшное… «Хижина дяди Тома» — вот это что! Сто лет тому назад так обращались с неграми, а теперь — в двадцатом веке — с русскими! А где-то в Швейцарии Литвинов произносит трескучие речи о недопустимой жестокости в обращении с туземцами в колониальных странах… О! С неграми нельзя, но она — русская… с русскими можно!
Голова опущена, а ноги еще шагают из последних сил. Разницы между «могу» и «не могу» она теперь не знала — ей казалось, что идти она больше не может, но она шла, шла с прокусанной ногой и могла уже идти еще долго.
Шли до сумерек; уже темнело, когда, наконец, остановились в виду лагеря и Леля впервые бросила взгляд на высокие, как стена, заборы, башни по углам и часовых на них. Горизонт замыкали леса.
Глава четырнадцатая
9 ноября. Ася все так же подавлена и молчалива; занимает ее только предстоящее свидание с Лелей. Вчера, когда вывозили конфискованную мебель, она оставалась почти безучастна, и только когда начали передвигать рояль, схватилась за голову и глаза ее вдруг наполнились слезами. Я обняла ее и заставила отойти; при этом я сказала:
— Успокойся: у меня есть пианино — оно теперь твое.
Она на это возразила:
— Пианино — ящик, а у рояля — душа!
Она бывает иногда очень оригинальная.
10 ноября. Бывшая прислуга Нины Александровны — Аннушка — очень добрая женщина: всю эту неделю она по собственной инициативе приходит в мое отсутствие подежурить около Аси, чтобы не оставлять ее перед родами одну. После конфискации вещей полы оказались страшно затоптаны, она их натерла, а после перестирала все приданое для будущего младенца. Делает все очень быстро и ловко, только уж словоохотливая слишком — посудачить любит: об Олеге отзывается очень сердечно, но уж лучше молчала бы — я вижу, что Асе тяжело, когда это имя треплется в ненужной болтовне.