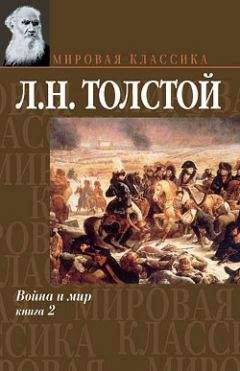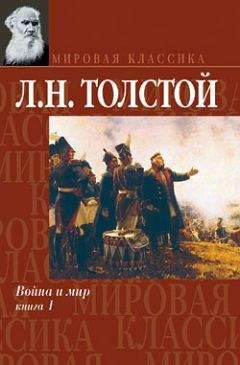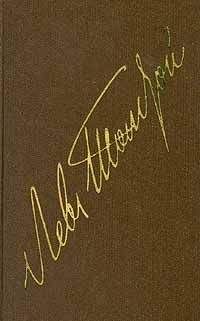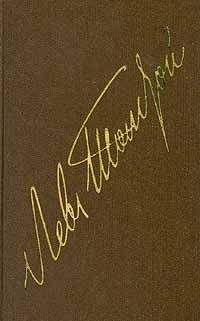Лев Толстой - Война и мир. Том 3 и 4
— Да, а для меня все остальное забава. Я все время в Петербурге как во сне всех видел. Когда меня занимает мысль, то все остальное забава.
— Ах, как жаль, что я не видала, как ты здоровался с детьми, — сказала Наташа. — Которая больше всех обрадовалась? Верно, Лиза?
— Да, — сказал Пьер и продолжал то, что занимало его. — Николай говорит, мы не должны думать. Да я не могу. Не говоря уже о том, что в Петербурге я чувствовал это (я тебе могу сказать), что без меня все это распадалось, каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить, и потом моя мысль так проста и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противудействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя — деятельная добродетель. Князь Сергий славный человек и умен.
Наташа не сомневалась бы в том, что мысль Пьера была великая мысль, но одно смущало ее. Это было то, что он был ее муж. «Неужели такой важный и нужный человек для общества — вместе с тем мой муж? Отчего это так случилось?» Ей хотелось выразить ему это сомнение. «Кто и кто те люди, которые могли бы решить, действительно ли он так умнее всех?» — спрашивала она себя и перебирала в своем воображении тех людей, которые были очень уважаемы Пьером. Никого из всех людей, судя по его рассказам, он так не уважал, как Платона Каратаева.
— Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала она, — о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?
Пьер нисколько не удивлялся этому вопросу. Он понял ход мыслей жены.
— Платон Каратаев? — сказал он и задумался, видимо, искренно стараясь представить себе суждение Каратаева об этом предмете. — Он не понял бы, а впрочем, я думаю, что да.
— Я ужасно люблю тебя! — сказала вдруг Наташа. — Ужасно. Ужасно!
— Нет, не одобрил бы, — сказал Пьер, подумав. — Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие, и я с гордостью показал бы ему нас. Вот ты говоришь — разлука. А ты не поверишь, какое особенное чувство я к тебе имею после разлуки…
— Да, вот еще… — начала было Наташа.
— Нет, не то. Я никогда не перестаю тебя любить. И больше любить нельзя; а это особенно… Ну, да… — Он не договорил, потому что встретившийся взгляд их договорил остальное.
— Какие глупости, — сказала вдруг Наташа, — медовый месяц и что самое счастье в первое время. Напротив, теперь самое лучшее. Ежели бы ты только не уезжал. Помнишь, как мы ссорились? И всегда я была виновата. Всегда я. И о чем мы ссорились — я не помню даже.
— Все об одном, — сказал Пьер, улыбаясь, — ревно…
— Не говори, терпеть не могу, — вскрикнула Наташа. И холодный, злой блеск засветился в ее глазах. — Ты видел ее? — прибавила она, помолчав.
— Нет, да и видел бы, не узнал.
Они помолчали.
— Ах, знаешь? Когда ты в кабинете говорил, я смотрела на тебя, — заговорила Наташа, видимо стараясь отогнать набежавшее облако. — Ну, две капли воды ты на него похож, на мальчика. (Она так называла сына.) Ах, пора к нему идти… Пришло… А жалко уходить.
Они замолчали на несколько секунд. Потом вдруг в одно и то же время повернулись друг к другу и начали что-то говорить. Пьер начал с самодовольствием и увлечением; Наташа — с тихой, счастливой улыбкой. Столкнувшись, они оба остановились, давая друг другу дорогу.
— Нет, ты что? говори, говори.
— Нет, ты скажи, я так, глупости, — сказала Наташа.
Пьер сказал то, что он начал. Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру.
— Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, — всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто.
— Да.
— А ты что хотела сказать?
— Я так, глупости.
— Нет, все-таки.
— Да ничего, пустяки, — сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой, — я только хотела сказать про Петю: нынче няня подходит взять его от меня, он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне — верно, думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит. Ну, прощай! — И она пошла из комнаты.
* * *В это же время внизу, в отделении Николеньки Болконского, в его спальне, как всегда, горела лампадка (мальчик боялся темноты, и его не могли отучить от этого недостатка). Десаль спал высоко на своих четырех подушках, и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николенька, только что проснувшись, в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках — таких, которые были нарисованы в издании Плутарха{77}. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge.[438] Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они — он и Пьер — неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.
— Это вы сделали? — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. — Николенька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец — князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся.
«Отец, — думал он. — Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил — я сделаю это. Муций Сцевола сжег свою руку{78}. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился. И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога: чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною». И вдруг Николенька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал.
— Etes-vous indisposé?[439] — послышался голос Десаля.
— Non,[440] — отвечал Николенька и лег на подушку. «Он добрый и хороший, я люблю его, — думал он о Десале. — А дядя Пьер! О, какой чудный человек! А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен…»
Часть вторая
I
Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Непосредственно уловить и обнять словом — описать жизнь не только человечества, но одного народа, — представляется невозможным.
Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой — жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом; и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа.
На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле и чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали: на первый вопрос — признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека; и на второй вопрос — признанием того же божества, направлявшего эту волю избранного к предназначенной цели.
Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества.
Новая история в теории своей отвергла оба эти положения.
Казалось бы, что, отвергнув верования древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув в теории воззрения древних, она следует им на практике.
Вместо людей, одаренных божественной властью и непосредственно руководимых волею божества, новая история поставила или героев, одаренных необыкновенными, нечеловеческими способностями, или просто людей самых разнообразных свойств, от монархов до журналистов, руководящих массами. Вместо прежних, угодных божеству, целей народов: иудейского, греческого, римского, которые древним представлялись целями движения человечества, новая история поставила свои цели — блага французского, германского, английского и, в самом своем высшем отвлечении, цели блага цивилизации всего человечества, под которым разумеются обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка.