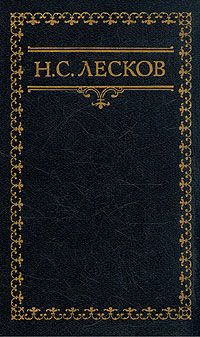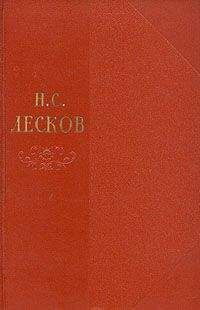Николай Лесков - Смех и горе
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
Так все это и сделалось. Портной одел меня, писаря записали, а генерал осмотрел, ввел к себе в кабинет, благословил маленьким образком в ризе, сказал, что "все это вздор", и отвез меня в карете к другому генералу, моему полковому командиру. Я сделался гусаром недуманно-негаданно, против всякого моего желания и против всех моих дворянских вольностей и природных моих способностей. Жизнь моя казалась мне погибшею, и я самовольно представлял себя себе самому не иначе как волчком, который посукнула рука какого-то злого чародея, - и вот я кручусь и верчусь по его капризу: езжу верхом в манеже и слушаю грибоедовские остроты и, как Гамлет, сношу удары оскорбляющей судьбы купно до сожалений Трубицына и извинений Постельникова, а все-таки не могу вооружиться против моря бед и покончить с ними разом; с мосту да в воду... Что вы на меня так удивленно смотрите? Ей-богу, я в пору моей воинской деятельности часто и много помышлял о самоубийстве, да только все помышлял, но, по слабости воли, не решался с собою покончить. А в это время меня произвели в корнеты, и вдруг... в один прекрасный день, пред весною тысяча восемьсот пятьдесят пятого года в скромном жилище моем раздается бешеный звонок, затем шум в передней, бряцанье сабли, восклицания безумной радости, и в комнату ко мне влетает весь сияющий Постельников!..
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Увидав Постельникова, да еще в такие мудреные дни, я даже обомлел, а он ну меня целовать, ну меня вертеть и поздравлять.
"Что такое?" - думаю себе, и как я ни зол был на Постельникова, а спрашиваю его, с чем он меня поздравляет?
- Дружище мой, Филимоша, - говорит, - ты свободен!
- Что? что, - говорю, - такое?
- Мы свободны!
"Э, - думаю, - нет, брат, не надуешь!"
- Да радуйся же! - говорит, - скот ты этакий: радуйся и поздравляй ее!
- Кого-с? - пытаю с удивлением.
- Да ее, ее, нашу толстомясую мать Федору Ивановну! Ну, Россию, что ли, Россию! будто ты не понимаешь: она свободна, и все должны радоваться.
- Нет, мол, не надуешь, не хочу радоваться.
- Да, пойми же, пентюх, пойми: с-в-о-б-о-д-е-н... Слово-то ты это одно пойми!
- И понимать, - говорю, - ничего не хочу.
- Ну, так ты, - говорит, - после этого даже не скот, а раб... понимаешь ли ты, раб в своей душе!
"Ладно, - думаю, - отваливай, дружок, отваливай".
- Да ты, шут этакий, - пристает, - пойми только, куда мы теперь пойдем, какие мы антраша теперь станем выкидывать!
- Ничего, - отвечаю, - и понимать не хочу.
- Так вот же тебе за то и будут на твою долю одно: "ярмо с гремушкою да бич".
- И чудесно, только оставьте меня в покое.
Так я и сбыл его с рук; но через месяц он вдруг снова предстал моему изумленному взору, и уже не с веселою улыбкою, а в самом строгом чине я начал на вы.
- Вы, - говорит, - на меня когда-то роптали и сердились.
- Никогда, - отвечаю, - я на вас не роптал. Думаю, черт с тобой совсем: еще и за это достанется.
- Нет, уж это, - говорит, - мне обстоятельно известно; вы даже обо мне никогда ничего не говорите, и тогда, когда я к вам, как к товарищу, с общею радостною вестью приехал, вы и тут меня приняли с недоверием; но бог с вами, я вам все это прощаю. Мы давно знакомы, но вы, вероятно, не знаете моих правил: мои правила таковы, чтобы за всякое зло платить добром.
"Да, - думаю себе, - знаю я: ты до дна маслян, только тобой подавишься", и говорю:
- Вы очень добры.
- Совсем нет; но это, извините меня, самое злое и самое тонкое мщение платить добром за оскорбления. Вот в чем вопрос: хотите ли вы ехать за границу?
- Как, - говорю, - за какую за границу?
- За какую! Уж, конечно, за западную: в Париж, в Лондон, - в Лондоне теперь чудные дела делаются... Что там только печатается!.. Там восходит наша звезда, хотите почитать?
- Нет, - говорю, - не хочу.
- Но отчего же?
- Да так, не хочу, да и только...
- И ехать не хотите?
- Нет, ехать хочу, но...
- Что за но...
- Но меня, - говорю, - не пустят за границу.
- Отчего это не пустят? - и Постельников захохотал. - Не оттого ли, что ты именинник-то четырнадцатого декабря... Э, брат, это уже все назади осталось; теперь на политику иной взгляд, и нынче даже не такие вещи ничего не значат. Я, я, - понимаешь, я тебе отвечаю, что тебя пустят. Ты в отпуск хочешь или в отставку?
- Ах, зачем же, - отвечаю, - в отпуск! Нет, уж я, если только можно, в чистую отставку хочу. - Ступай и в отставку, подавай по болезни рапорт - и катай за границу.
- Да мне никто и свидетельства, - говорю, - не даст, что я болен.
Постельников меня за это даже обругал.
- Дурак! - говорит, - ты извини меня: просто дурак! Да ты не хочешь ли, я тебе достану свидетельство, что ты во второй половине беременности?
- Ну, уж это, - говорю, - ты вздор несешь!
- Держишь пари?
- И пари не хочу.
- Нет, пари! держи пари.
И сам руку протягивает.
- Нечего, - говорю, - и пари держать, потому что все это вздор.
- Нет, ты держи со мною пари.
- Сделай милость, - говорю, - отстань, мне это неприятно.
- Так что ж ты споришь? Я уж знаю, что говорю. С моего брата на перевязочном пункте в Крыму сорок рублей взяли, чтобы контузию ему на полную пенсию приписать, когда его и комар не кусал; но мой брат дурак: ему правую руку отметили, а он левую подвязал, потом и вышел из этого только один скандал, насилу, насилу кое-как поправили. А для умного человека ничего не побоятся сделать. Возьмись за самое легкое, за так называемое "казначейское средство": притворись сумасшедшим, напусти на себя маленькую меланхолию, говори вздор: "я, мол, дитя кормлю; жду писем, из розового замка" и тому подобное... Согласен?
- Хорошо, - отвечаю, - согласен.
- Ну вот, только всего и надо. И сто рублей дать тоже согласен?
- Я триста дам.
- На что же триста? Ты, милый друг, этак Петербургу цены портишь, - за триста тебя здесь теперь ведь на родной матери перевенчают и в том тебе документ дадут.
- Да мне уж, - говорю, - не до расчетов: лишь бы вырваться; не с деньгами жить, а с добрыми людьми...
Постельников вдруг порскнул и потом так и покатился со смеху. Прекрасно, - говорит, - вот и это прекрасно! Извини меня, что я смеюсь, но это для начала очень хорошо: "не с деньгами жить, а с добрыми людьми"! Это черт знает как хорошо, ты так и комиссии... как они к тебе приедут свидетельствовать... Это скоро сделается. Я извещу, что ты не того...
Постельников помотал пальцем у своего лба и добавил:
- Извещу, что у тебя меланхолия и что ты с оружием в руках небезопасен, а ты: "не с деньгами, мол, жить, а с добрыми людьми", и вообще чем будешь глупее, тем лучше.
И с этим Постельников, сжав мою руку, исчез.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
Два-три дня я прожил так, на власть божию, но в большом расстройстве, и многим, кто видел меня в эти дни, казался чрезвычайно странным. Совершеннее притворяться меланхоликом, как выходило у меня без всякого притворства, было невозможно. На третий день ко мне нагрянула комиссия, с которой я, в крайнем моем замешательстве, решительно не знал, что говорить.
Рассказывал им за меня все Постельников, до упаду смеявшийся над тем, как он будто бы на сих днях приходит ко мне, а я будто сижу на кровати и говорю, что "я дитя кормлю"; а через неделю он привез мне чистый отпуск за границу, с единственным условием взять от него какие-то бумаги и доставить их в Лондон для напечатания в "Колоколе".
- Конечно, - убеждал меня Постельников, - ты не подумай, Филимоша, что я с тем только о тебе и хлопотал, чтобы ты эти бумажонки отвез; нет, на это у нас теперь сколько угодно есть охотников, но ты знаешь мои правила: я дал тем нашим лондонцам-то слово с каждым знакомым, кто едет за границу, что-нибудь туда посылать, и потому не нарушаю этого порядка и с тобой; свези и ты им кой-что. Да здесь, впрочем, все и довольно невинное: насчет нашего генерала и насчет дворни. В Берлине ты все это можешь даже смело в почтовый ящик бросить, - оттуда уж оно дойдет.
Признаюсь вам, принимая вручаемый мне Постельниковым конверт, я был твердо уверен, что он, по своей "неспособности к своей службе", непременно опять хочет сыграть на меня. Ошибался я или нет, но план его мне казался ясен: только что я выеду, меня цап-царап и схватят с поличным - с бумагами про какую-то дворню и про генерала.
"Нет, черт возьми, - думаю, - довольно: более не поддамся", и сшутил с его письмом такую же штуку, какую он рассказывал про темляк, то есть "хорошо, говорю, мой друг; благодарю тебя за доверие... Как же, отвезу, непременно отвезу и лично Герцену в руки отдам", - а сам начал его на прощание обнимать и целовать лукавыми лобзаниями, да и сунул его конверт ему же самому в задний карман. Что вы все, господа, опять смотрите на меня такими удивленными глазами? Не кажется ли вам, что я неблагодарно поступил по отношению к господину Постельникову? Может быть и так, может быть даже, что он отнюдь и не имел никакого намерения устраивать мне на этих бумажонках ловушку, но обжегшиеся на молоке дуют и на воду; в этом самая дурная сторона предательства: оно родит подозрительность в душах самых доверчивых.