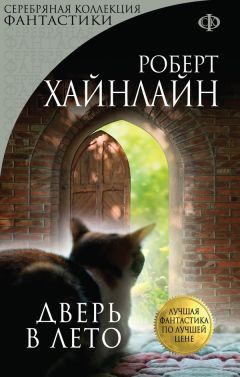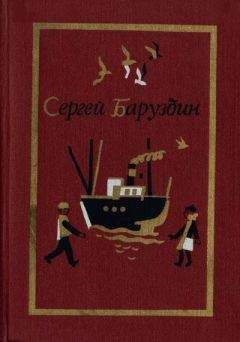Зинаида Гиппиус - Том 5. Чертова кукла
Морсов говорил то, и, хотя особой новизны сущность его речи не представляла, он говорил красиво, интересно и умно. Немного длинно и непросто, но умно. Начал с того, что это «выдуманное» письмо «самоубийцы от скуки, разумеется, материалиста» – лежит в основе почти всех реальных самоубийств, сделавшихся повальной болезнью нашего времени. Если бы смог или сумел каждый уяснить себе до конца предсмертное состояние своей души, он оставил бы точно такое письмо. Каждый самоубийца думает, что «нельзя жить», потому что не для чего «соглашаться страдать». В самом деле, думает он, для чего? Какое право природа имела производить его, без его воли на то, страдающего бросить в жизнь, какова она есть? И дальше: пусть жизнь изменится, пусть можно «устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не как было доныне». Опять он спрашивает: для чего? Ведь сознание говорит ему, что завтра же все это будет уничтожено, превращено в нуль, и вся «счастливая» жизнь, и он сам. Вот под этим-то условием «грозящего завтра нуля» и нельзя жить. «Это чувство, непосредственное чувство, и я не могу побороть его».
Морсов очень тонко и ярко распространился насчет «непосредственного чувства». Он доказывал, что с ним, с таким, в самом деле, нельзя жить ни секунды, и проникнись им действительно все, – хотя бы здесь сидящие, – они не дожили бы до завтрашнего утра.
– Я знаю, – прибавил Морсов, – многие искренно воображают, что они убеждены в полном уничтожении своей личности после смерти, – и все-таки о самоубийстве не помышляют. Но это-то последнее и доказывает, что они просто над вопросом не думали, этого «завтрашнего нуля» воочию пред собой не видели, а их «непосредственное чувство» находится в противоречии с воображаемым о нуле знанием. Таким образом, я утверждаю, что понятие личности…
«А еще, ораторства рекомендовал избегать, – подумал соскучившийся Юрий. – Да ему нет и предлога кончить. Сейчас до христианства дойдет».
Но Морсов христианства едва коснулся, он занесся куда-то совсем в сторону, заговорил непонятнее и круглее, – и кончил.
Никто не сделал никаких замечаний, да и не успел бы, так как слова Морсова тотчас же были подхвачены Пи-томским. Этот сразу заговорил о вере, о христианстве, об учении личного бессмертия, о проникновенности – и о грубых ошибках Достоевского. Говорил с такой пылкостью, что Юрий даже удивился. Следить за ним трудно, но слушать почему-то было приятно. Юрий видел, как старые дамы протянули вперед сухие шеи и впивались в черненького историка, у которого от волнения все время слетало pince-nez.
Он кончил как-то внезапно, вдруг оборвал.
«Для кого это они? – про себя усмехнулся Юрий. – Ежели для степенных сектантов, то ведь они и так веруют, а если для Раевского, Глухарева, Стасика и Лизочки моей, то на что они надеются?»
Впрочем, сейчас же сообразил: «Ни для кого. Для всех… Для себя. Ведь это же игра!»
Когда Питомский кончил, в ближайших рядах стали двигаться. Откашлялся какой-то молодой малый с широким лицом и приподнятыми бровями, синерубашечник, может быть, рабочий.
– Вы хотите сказать?.. – предупредительно обратился к нему «неофициальный» председатель.
Тот опять кашлянул и отрывисто, хотя без всякой робости, начал:
– Да я вот… по поводу вашей речи. Что же нам так пристально сразу же о смерти думать, нуль там или еще что… Живем мы; ну уж просто, значит, действует инстинкт самосохранения. Скажем, нуль, дознано, скажем… Природный-то инстинкт будет же действовать. Голод, скажем, будет у меня? А если будет, так я стану пищи искать, нуль мне предстоит иль не нуль…
– Ага, – вскрикнул Питомский, уловив только одно. – Значит, по-вашему, дознано, что там нуль? Наука дошла, определила раз навсегда? А где это она определила?
Морсов слабо замахал рукой.
– Позвольте, позвольте, это не по вопросу…
Но Питомский уже сцепился с парнем, оба говорили свое, мимо друг друга. Ввязалось еще несколько человек, выходила путаница. Степенный старец в сапогах гудел, поглаживая серую бороду:
– Нет, оно, конечно, правильно… Как это можно, чтобы без бессмертия души. Однако излишне мудрствуют… То же и церковники тут напутали… Веру отшибают…
– Вот вы говорите – вера… – звонко кричала сзади какая-то девица и тянулась к Питомскому и Морсову. – А как ее приобрести, как, если она утеряна? Вот я бывала здесь, слушала, ждала; думала – услышу что-нибудь такое…
Морсов, делать нечего, зазвонил. Утихли немного. Поднялся молодой или моложавый человек с простым-простым мужиковатым лицом, довольно приятным, и острыми глазами.
– Я так полагаю, господа, что трудно нам за всех решать. Да и тоже, собравшись, всенародно говорить. Я полагаю, что, конечно, теперь у всякого внутри свой Бог есть или, так сказать, своя правда, что ли, во имя чего он себя не убивает, живет. По-своему домекнулся – и живет. Однако время еще не приспело, чтобы эту правду на людях, вот как мы сейчас здесь, выворачивать. Не приспело и не приспело. Иной и знает вполне, и верит, что для всех она годится, а по совести, совсем в открытую, не скажет. Слов ли нет ни у кого еще для общей-то правды или мест таких нет, где говорить, а только окончательно и открыто никто не станет говорить. И это ко благу…
– Значит, вы думаете, – вскипел Питомский, – что я… что мы… неискренно-Остроглазый грустно поглядел на него.
– Не про то я, – вздохнул он и хотел продолжать, но в эту минуту звонко, спокойно и весело прервал его Юрий:
– Вы не правы. Отчего никто не скажет? Не все, но есть такие, которые скажут. Я вот, например, везде и всегда, если только меня спросят, могу «в открытую» сказать, чем я живу и как живу. Это моя правда, и думаю еще я, что она годна для всех. Я ее не проповедую именно потому, что слишком убежден в ее всеобщей годности. Многие и теперь живут ею, да, к беде своей, этого не знают. Знать, понять, – очень важно. Потом все будут знать. Непременно. А когда, скоро ли – я не забочусь, мне это все равно.
– Что ж вы загадки-то загадываете, говорите, – протянул остроглазый, не сводя взора с красивого, живого лица Юрия;
– Говорите, говорите! – захлопотал Морсов и, забыв, что он не «официальный» председатель, возгласил: – Господа! Слово принадлежит Юрию Николаевичу Двоекурову!
Юрий со своего места не видел только сидящих позади него. Но он слышал, что и там задвигали стульями. Остроглазый человек сидел прямо перед ним, старики в кафтанах тоже близко. Из-за них вдруг блеснули чьи-то знакомые синие глаза, но чьи – Юрию некогда догадываться. Очень уж все весело и занимательно.
– Я не отойду от нашей темы, – начал Юрий. – Мне это письмо самоубийцы очень поможет сказать то, о чем меня здесь спросили. И говорить буду попросту, иначе не умею. Ведь самоубийца Достоевского толкует о своем сознании. Дошел будто бы до высшей точки сознания, потому что ставит себе разные вопросы. Ну, а я думаю, что вовсе у него не высшая точка, а больная кривизна. Или, в лучшем случае, некоторое перепутье. Он же и сам себе противоречит. Говорит: «если выбирать сознательно, то уж, разумеется, я пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь». Вот это правда. Сознательно пожелать быть счастливым, пока я существую, – в этом, собственно, и вся правда человеческая, даже, если хотите, и «спасение» человечества. Только сознательное пожелать: это надо запомнить. Бессознательно или малосознательно, глуло и неумело, большинство людей (если не все) этим одним живут и всегда жили.
От неясности желания или от неумелости взяться, от вечных поэтому неудач, – люди мечутся в своих и чужих сетях и страдают. Наконец, выдумывают себе вопросы, со злобой говорят, что жить нельзя, потому что их нельзя решить, а между тем ни эти вопросы, ни ответы людям совершенно ни на что не нужны. Я не грубо как-нибудь говорю «нужны», нет, просто-таки никого из нас они не касаются. «Для чего?» – спрашивает самоубийца и продолжает: «Все, что мне могли бы ответить, это: чтоб получить наслаждение». Таким ответом он не удовлетворяется.
Я, мол, не корова и не цветок, я человек, потому что я «задаю себе беспрерывно вопросы» о смысле жизни. А по-моему, даже одно это хвастовство и презрительное отношение к животным – признак, что он еще не полный человек, а выскочка, и сознание его – еще так себе, полусознание: мечется, измышляет вопросы и «беспрерывно их себе задает», хотя и знает втайне, что ни одного не решит.
Впрочем, на вопрос «для чего?» он как бы отвечает: «ни для чего». Прекрасно. И я то же говорю; ответ «ни для чего» – правильный (раз уж навязались вопросы да ответы); но почему надо умирать, если мы живем ни для чего? Напротив, это именно ответ, утверждающий жизнь, толкающий жить.
«Буду нуль. Не желаю быть нулем. Провались лучше тогда все и вся». Скажите пожалуйста? Какая гордыня! Сидор Сидорович, который сотни веков был нулем и ничего себе, стал размышлять и решил: или мне чай пить, или пусть мир проваливается. Нет, высшее сознание сделает человека прежде всего смиреннее и проще. Христиане называют себя смиренными. А по-моему, христианство-то и создало величайшую гордыню, потворствуя капризам каждого Сидора Сидоровича, который «не согласен», чтоб мир существовал, если ему не обещают чаепития в вечности. К христианству я еще вернусь, а пока скажу, что с этими вопросами «для чего?», «зачем?» да «куда?», со всеми «исканиями смысла жизни» мы непременно должны будем кончить. Это придумки, освященные предрассудками. Считается уважительным – «искать смысл» жизни, а не искать– стыдным. Ну да со временем все это выяснится и поймется, как должно. Понял же я, – поймут и другие. Я убежден, что никакого смысла жизни нет, и твердо знаю, что он мне не нужен. Больше: знаю, что и никому он не нужен, только я это сознаю, и говорю, и так живу, как говорю, а другие, даже кто и живет по-моему, – молчат.