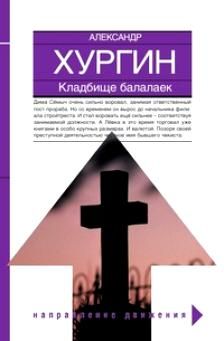Александр Хургин - Кладбище балалаек
Леля-то отнеслась к этой перспективе без особого энтузиазма. А я чуть не единственный раз в жизни настоял на своем, то есть не на своем, конечно, а на нашем общем. Чтоб рожать - и никаких гвоздей и путей назад. И рожала Светку Леля как-то между делом и между прочим. Нехотя. Как будто предвидела что-то нехорошее в будущем. Как будто знала - лучше ее не рожать и не давать ей жизнь, а уничтожить в зародыше, когда жизнь по-настоящему еще не началась, а только зарождается и, значит, жизнью во всей ее полноте считаться не может.
До самых родов Леля старалась не обращать внимания на свою беременность, жить, как жила, не бабиться. Когда я говорил, что надо бы сходить в женскую консультацию и стать на учет, она отмахивалась, говоря, что успеет стать и что не знает адреса этого медучреждения, а узнавать ей неохота и незачем. Так ни разу за девять месяцев и не была там. Вдруг среди ночи сказала: "Ну, я пошла", - и стала собираться.
- Куда пошла? - спросил я.
- Рожать, - сказала Леля. - По твоей милости.
Я вышел на угол, к остановке такси, и мне сразу повезло. Я разбудил спящего в лимонной "Волге" таксиста. Он посмотрел на меня дурным глазом, крутанул глазным яблоком и дохнул дурным воздухом из прокуренных легких.
- Куда ехать?
- Куда скажу.
Таксист встряхнулся, решил, что дядя я серьезный и возражать мне ночью небезопасно.
- Понял.
"Волга" завелась, взвыла, задымила. Я сел рядом в просиженное низкое кресло. Заехали во двор. Остановились. Я поднялся в квартиру, взял приготовленные Лелей вещи. Хотел помочь ей. Нести их и вообще - идти.
- Я сама, - сказала она и пошла по лестнице вниз. Шла Леля тяжело, ступая на пятки, и все-таки с легкостью. Слоновьей, но легкостью. "Неужели ей не
больно? - думал я. - Должны же у нее быть частые схватки. Или у нее все по-своему"?
В роддоме недовольно удивились, что у Лели нет никаких справок, анализов, истории болезни и тому подобных, обязательных для медицины документов. Леля сказала:
- Вот мои документы, - и качнула животом.
Этот вызывающий жест возбудил новый прилив недовольства у роддомовского персонала. Недовольства ею. И мною. И всем человеческим племенем, неразумным и непросвещенным относительно собственного здоровья и системы здравоохранения в стране. Они мне сказали:
- Ну, а вы, товарищ супруг, куда смотрели и как такой беспорядок допустили?
Я не ответил. Я задумался над вопросом "какое надо иметь особое устройство мозгов, чтобы обратиться к человеку "товарищ супруг"?"
И медперсонал стал уводить Лелю, сказав, что сейчас у нее будут брать все анализы и производить прочие необходимые обследования, без которых рожать детей никак и ни в коем случае нельзя. А Леля сказала:
- Не будут брать и производить.
- Почему? - спросили роддомовские.
Но Леля им ничего определенного не ответила. Она просто присела и душераздирающе заорала. По ногам у нее что-то потекло. Я отвернулся, опасаясь, что всего этого натурализма с достоинством не вынесу и Леля мне после просмотра таких откровенных биологических картин жизни как женщина опротивеет.
Лелю утащили, и я спросил у дежурной тетки:
- Что мне делать?
- А я знаю? - ответила тетка.
Я вышел из помещения. Посмотрел сквозь свет уличных фонарей на здание роддома снаружи. Поднял голову. Высокое здание. Опустил голову. Весь асфальт исписан дебильными и одновременно счастливыми сентенциями: "Спасибо за Васю. Петя", "Любимая, нас теперь трое. Соображаешь?", "Мы здесь рожали. Вова, Надя, бабушка Нина и дедушка Леня из Казани". Читать эту восторженную галиматью дальше не хотелось. И я пошел по надписям ногами.
Дома лег. Уснул. Разбудил меня телефон. Долго не мог нащупать трубку. Все время мазал и натыкался то на пепельницу, то на книгу пушкинских сказок, то на огрызок яблока, оставленный Лелей.
- У нас дочь, - сказала в трубку Леля. - Придумай ей приличное человеческое имя.
Я сказал:
- Пусть будет Светка.
И Леля сказала:
- Пусть.
Когда Светки не стало и прошло какое-то время - года два, наверное, - я заикнулся, что не подумать ли нам о новом, другом, ребенке. Светку уже не
вернуть - это ясно, - а без ребенка жить семейной жизнью неполноценно и неестественно, и если сейчас не решимся, через несколько лет будет поздно, так как молодыми родителями нас и особенно меня назвать трудно. Леля посмотрела из своего угла, сказала "бе-е-е-е", и я понял - никакого ребенка не будет. И таки не было и нет. Ни у нас не было и нет, ни у нее, ни у меня. А ведь во время наших многочисленных разводов, пошедших после этого разговора косяком, дети могли бы появиться. Не общие, так у каждого свои. Не появились. Это факт. Он коль уж состоялся, то все. Деваться некуда. И все мы под фактом, можно сказать, ходим. Как под мечом дамокловым подвешенным. Поскольку все можно по совету Маркса с Сократом подвергнуть сомнению, а факты нельзя. О фактах можно размышлять и городить вокруг них домыслы и гипотезы, но предварительно с ними смирившись, признав их, фактов, непоколебимое наличие и величие.
Я вот часто стал думать - живем мы тут и сегодня, и это непреложный факт нашего, громко говоря, бытия. И, казалось бы, нечего над этим фактом думать и раздумывать. А я думаю. Что было бы, если бы (опять это дурацкое до бесконечности "если бы") мы жили в другом, скажем, времени? Как бы ко мне относилась Леля эпохи Возрождения? Или Реставрации? Или эпохи второго Храма? А если бы и в другом времени, и в другом месте мы жили? Ну, допустим, в Древнем Риме? Или в Помпеях. Или в великой Германии 1939 года? И что была бы у нас за жизнь, родись мы англичанами или арабами, или теми же немцами в том же 1939 году. Странные размышления.
Я подозреваю - ни время, ни место, ни иное до полной неузнаваемости происхождение не остановили бы Лелю и не изменили б ее. И выставила бы она меня все так же. Вот разве что Дик не попал бы в Древнем Риме под машину и не исчезла бы из квартиры Светка. Но, может быть, там Дик попал бы под колесницу, управляемую каким-нибудь пьяным после симпозиума древним итальянцем. О том, что могло случиться со Светкой в Помпеях или в Германии, - и думать не хочется. Там с ней могло произойти что-нибудь еще более страшное, чем то, что произошло здесь, у нас, в наше время. То есть как более страшное? И что это может быть? Смерть? Да, смерть, она и есть смерть, и ничего страшнее быть вроде не может. Страшнее может быть разве только приближение к смерти. Тот последний кусок жизни - длинный или совсем короткий, - что к смерти приводит и ей предшествует. Это для самого человека. А для близких его - исчезновение, наверно, страшнее. Потому что смерть как потеря хотя бы ставит точку. И от этой точки надо начинать как-то жить и можно, удаляясь во времени, свыкнуться и стерпеться. Исчезновение это отсутствие точки, и невозможность от нее и от потери отдалиться.
Наверное, поэтому - хотя и не задумываясь почему - я в ограде Лелиных родителей сделал еще один холмик. Заказал небольшую плиту с датами рождения и мнимой смерти, и у нас появилась могила. На которую стало можно прийти. Леля тогда сказала на это:
- Идиот. А если она жива?
Несколько лет после пропажи Светки и гибели Дика Леля панически боялась переходить дорогу. Даже на зеленый свет. И если переходила - только по подземным переходам. Когда такого перехода не обнаруживалось, она отказывалась идти, останавливалась и стояла, а постояв, возвращалась ни с чем. Когда не идти было совсем уж нельзя, она шла или ехала в какой-нибудь немыслимый обход, объезд, в троллейбусе по кольцу, как угодно. Лишь бы не поперек дороги, лишь бы не приближаться к машинам.
Потом она стала вдруг относиться к движущемуся металлу, как ко мне - с презрением. Перебредала самые напряженные городские магистрали где вздумается. Не глядя ни вправо, ни влево. Приходила домой, сто раз обматеренная, обруганная самыми последними водительскими словами. Но живая и невредимая. Наконец, она сказала: "Значит, не судьба". И стала относиться к автомобилям спокойно. Как к средству передвижения, и только. И перестала ходить к родителям, а значит, и к Светке на могилу. Вообще перестала. Сказав один раз и навсегда: "Могилы у меня внутри, а не на местности". И я ходил туда один. Тоже редко. Но два раза в год - в день рождения и в день "смерти" Светки - ходил. Ничего не говоря о своих походах Леле. А она все равно что-то такое чувствовала. И бывала в эти дни против обыкновения нервной и взвинченной. В эти дни ее оставляло обычное внешнее спокойствие. Она не могла сохранить его даже для виду и для других. А может, она не пыталась его сохранять. Да, скорее всего, не пыталась. Она мало заботилась о внешних проявлениях. Внешние проявления Лели проявлялись сами собой. Или не проявлялись. Но тоже сами.
Я вот до сих пор не знаю и не могу оценить одного ее, так сказать, проявления. Были годы, когда в Светкины дни мы с Лелей жили врозь. И таких лет набралось в общей сложности немало. И всегда в эти дни Леля мне звонила. Ничего не говоря о Светке. Она звонила как ни в чем не бывало, как будто мы не были в глухом разводе. Спрашивала, почему мой телефон не отвечает с самого утра, и где я таскаюсь, и как без нее обхожусь, и что у меня нового как жизнь, другими словами, спрашивала. Я что-нибудь ей отвечал. И на протяжении всего разговора думал только об одном: "Помнит она о Светке или не помнит?"