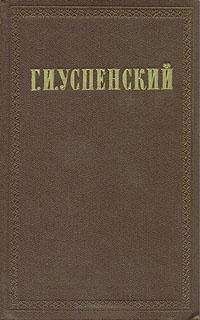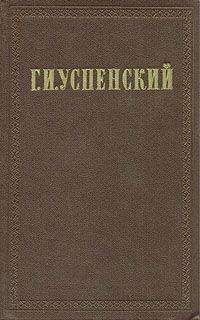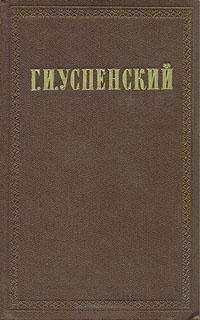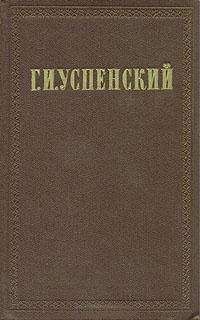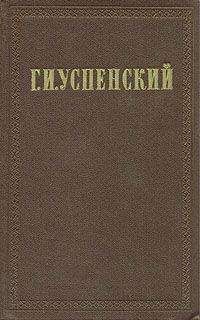Глеб Успенский - Очерки и рассказы (1866-1880 гг.)
По косогору, открывшемуся перед прогуливавшимися, двигалась с граблями в руках целая фаланга женщин, разодетых в лучшие платья, яркие цвета которых как нельзя более соответствовали яркой картине природы — зелени, солнцу.
Ритор ничего не отвечал.
Скоро женщины столпились в кучу, и раздалась песня; прогуливавшийся чиновник приблизился к певицам и некоторое время наслаждался молча; но так как неподалеку стоял староста, наблюдавший за бабами, то чиновник обратился к нему с вопросом насчет Гаврилы Кашина: может ли он уплатить штраф? — затем прилег на траву, похвалил целебные свойства полевого воздуха и развернул судебные уставы.
Песня упала…
— Пойте, пойте! — поощрял чиновник, перелистывая устав о наказаниях.
Но хор косился на него и слабел.
— Пойте, пожалуста, — просил любитель природы.
Но несмотря на гуманнейшее обращение путешественника с поселянками, последние мало-помалу разбрелись, не докончив песни…
— Пора домой, — сказал, наконец, чиновник молчавшему ритору. — Я думаю, теперь получились газеты… С нетерпением жду.
Ритор молчал.
— Не сегодня-завтра, — шопотом прибавил чиновник, — во Франции должна вспыхнуть революция… вот штука-то будет… Давно пора!
Ритор все молчал, соображая, что все это значит? Как назвать, как определить эту гуманность, образованность, которая повсюду вносит с собой уныние и грусть?.. Вон с измученной совестью сидит на крыльце солдат… Вон вздыхает целая семья мещанина Кашина, видя пред собою голод… Бабы перестали петь… ушли…
— Иван Петрович! — сказал, наконец, ритор, когда они возвращались домой…
— Что?
— Как же вы… как же… — теряясь в возможности определить виденное, лепетал ритор и вдруг воскликнул: — Да что ж это такое вы делаете?
— Порядок, батюшка, нельзя! — категорически ответил чиновник и продолжал дорогу молча, срывая васильки и цветы и сбирая из них букет для жены.
ТЯЖКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
…Дождь только что миновал; по небу беспрерывно неслись толпы обессилевших жидких туч, которые изредка на быстром бегу своем роняли несколько капель на землю, на гнилой подоконник моей каморки и проносились мимо. В открытое окно иногда врывались волны сырого вечернего ветра, шевелили какую-то бумажку на столе и поталкивали тоже гнилую с выболтавшимся замком дверь. Дело происходило на беднейшем постоялом дворе беднейшего уездного города; я сидел на жестком неудобном диване, слушал, как замирает ворчанье кособокого самовара, пошатывавшегося от ветру на кособоком железном подносе, курил и, кажется, ни о чем не думал. В окно виднелся плетень, за колья которого хватается какой-то солдат, намеревающийся пробраться сухой тропинкой и не попасть в грязь… За забором, где-то вдали, видна какая-то мокрая соломенная крыша, две промокшие вороны с глухим карканьем поднялись было над нею, но тотчас же и возвратились в свои норы… За мокрой соломенной крышей — тучи и тучи… Тяжесть какая-то, которую испытываешь именно только под влиянием этих крыш, ворон, грязи и разоренья, веющего от всякой русской глуши, наваливалась на меня вместе с темнотою, сумраком дождливого летнего вечера… Бесконечным каким-то одиночеством веял и этот сырой молчаливый ветер и полузаглохшая комната постоялого двора…
— Откушали чай, батюшка? — с кашлем спросила меня ветхая и грязная старуха, входя в комнату.
— Убирай! — сказал я.
Старуха стала осторожно подходить к самовару, стараясь как можно аккуратнее ступать своими большими мужичьими сапогами. Покашливая и тяжело дыша, причем в груди ее что-то хрипело, напоминая испорченные деревенские часы, стала она убирать чашки, собирать с окна и стола ложечки и блюдцы в одно место, и в это время я заметил, что она как будто плачет: несколько раз она касалась концом грязного фартука своих глаз и как будто бы слегка всхлипывала. Сначала мне показалось, что это с холоду; но когда старуха утерла фартуком нос, то я уже не сомневался, что она плачет, ибо она так обошлась со своим носом, как это делают только горько плачущие люди.
Слезы старухи, благодаря грустному расположению духа, навеянному вечером, погодой и обстановкой комнаты, тотчас же отдались во мне.
— Ты о чем плачешь? — спросил я.
Старуха всхлипывала и, не отвечая мне, перебирала блюдцы и ложечки… Я думал, что это сердитая, должно быть, старуха, что она не ответит мне, и не повторил моего вопроса; но она, помолчавши несколько секунд, как-то отрывисто, захлебнувшись слезами, сказала:
— Жалко!..
И тотчас же опять утерла нос.
— Кого же тебе жалко? — спросил я.
— Да барыню свою очень жаль!
Корявые пальцы старухи не позволяли ей сразу справиться с чайным прибором; она попробовала было взять чашки, и поднос, и самовар — все вместе, но с подноса и блюдечка вдруг полилась на пол и стол вода; старуха принуждена была снова поставить все на прежнее место и стараться принять посуду как-нибудь на другой манер, поудобнее…
— Погляди-кось, — бормотала она, — как заливается-то, головушка!.. Глянешь, глянешь на нее, да и сама в слезы… Головушка бедная!.. Чать, видел, недавишь повозка тутотко проехала?..
— Видел!
— Ну — барыня это… Я — ее крепостная бывшая, сорок пять годов у ее выжила… мне это известно, какая у нее ангельская душа… Как увижу — кажется бы, в гроб мне легче лечь, нежели чем муку ее видеть… Вон теперче в город едет — поди-кось, полюбуйся, каково сладко причитает!..
— Да что такое с ней случилось?
— Да вотто, вот, что погубили ее!.. Разбойник один, мошенник! Больше ему и звания нету — душегуб. Чтоб ему и с чугуном-то со своим — чугунную, вишь, дорогу вел, через барыню, через землю… Кто ж его знал, кровопийцу? Ему в душу не влезешь, тоже чиновник прозывается… "Кто вы такие будете?" — "Я, говорит, путей сообщения..."
— Кто?
— Путей, говорит, сообщения… "Какое ваше будет звание?" тоже как у доброго человека спрашиваем… А какое его звание? Чорт! Вот ему и чин его весь, прости господи.
Старуха, видимо, была рассержена. Она несколько раз обхватывала рукой самовар, чтобы унести; но негодование до тоге было сильно, что его требовалось разрешить не исполнением своих обязанностей, а чем-нибудь посторонним — обстоятельным разговором, чьим-нибудь участием…
— Что такое? обидел он ее в чем-нибудь? — спросил я.
Старуха как будто бы не слышала моего вопроса и с сердцем сказала:
— Кабы на вас, на мужчин, управа была, а то нету управы-то на вас!.. Вот из-за чего!.. С нами, с женщинами, — так нельзя! У нас от покойника, от барыниного мужа, бумага была особенная, гербовая… чтобы ни боже мой — замуж не выходить… "Хоша я и умираю, отхожу, ну чтобы супруга моя была зачислена за мной, за упокойником, но ежели, когда ежели она замуж посмеет… Чтобы вдовела бесприменно по честности своей… А то всего имущества, которое, например, имение, — то я ее всего лишу…" Видишь вот? Так нам нельзя было себя допущать… Нам это невозможно как-нибудь… У нас первое дело — контракт баринов, а второе дело — стыд; так мы с барыней-то ровно на цепях были привязаны, как собаки какие… И мой-то муж в отлучке в Бисарабии был… Так-то, родной!.. Так уж мы как старались!.. Барыня, молодая, я женщина в ту пору молодая была, — как беспокоились-то!.. У нас, бывало, все окна занавешены, все двери на запорах, на крюках железных, заборы эво какими гвоздищами оковали… Нам нельзя как-нибудь себя допускать, мы женщины… И что ж? Слава богу было!.. Запремся на крюки, на запоры, всего у нас довольно, сидим мы, чаек попиваем, сердце у нас веселое, потому думаем: "Вот мы, слава богу, по честности живем, закон супругов соблюдаем", и таково нам чудесно, легко… А чуть ежели — сейчас мы панихиду по покойнику… Часто у нас служение было… Жили мы честно, благородно и век бы свековали, коли бы этого путей сообщения не принесло… Ох, уж и накажет его бог!
— Да что же такое он сделал?
— Тьфу! вот что!.. Ну позвольте вас спросить, ну вот вы проезжающий господин, ну что же хорошо это, ежели прийти к человеку в дом, к женщине, да прямо этак-то вот и завалиться где ни попадя?.. Ну что это — порядок? Как же, сидим мы — осенью было дело; заперлись, заколотились наглухо; пьем чай, думаем о своей участи — вдруг в сенцах: стук, стук, грох-грох. — Господи-батюшка, кому быть об эту пору — время позднее, жили мы в деревне — ну-ко да лихой человек, бессовестный вор-разбойник? Как нам быть? Дрожим, молитвы творим; мало-мало погодя — грох-грох-грох! Что ты будешь делать? Как нам мужчину впустить?
— Почему ты узнала, что это мужчина стучится?
Старуха на минуту остановилась, но тотчас же с особенной явственностью проговорила:
— Потому мы кажинную минуту за свое женское благолепие опасались… Вот отчего, друг ты мой! Как почал он громыхать — громыхал, громыхал — вижу я, надыть пойти узнать… Пошла я, спрашиваю: "Кто вы такие? Что вы нас, женщин, смущаете? Как нам можно мужчину к себе, к женщинам, допущать, коли мы не можем… Нам это невозможно". — "Сделайте милость, Христа ради! Где угодно, хоть в сенцы, хоть в кухню…" Так упрашивал, так упрашивал, Христом богом молил… дрожали мы, дрожали, думали — "сем пустим?" Положили мы с барыней так, что запрем его на пять замков в кухню, — и пустили!.. Тут и спокою конец!