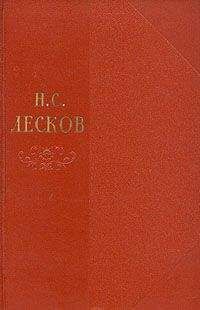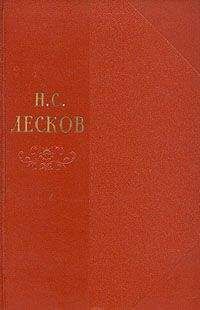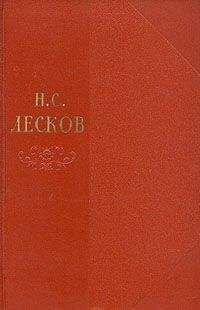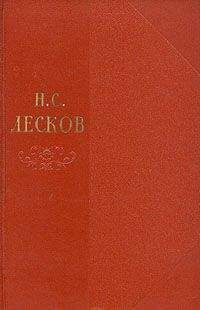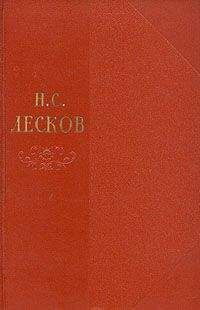Николай Лесков - Том 10
В не очень давнее время, именно во дни, предшествовавшие освобождению помещичьих крестьян от крепостного состояния, был явлен весьма крупный и внушающий пример такой неправой укоризны, поддерживаемый друг против друга целыми сословиями. В те дни,
Когда был в моде трубочист*,
А генералы гнули выю,
Когда стремился гимназист
Преобразовывать Россию.
подвергалось жесточайшей опале дворянство. Сословию этому были позабыты все его заслуги и строго сосчитаны все его преступления и вины. В главнейшую вину дворянству вменялось его крепостничество — его «владение крещеною собственностию»*. Под дворян подкапывались все, не исключая купечества и даже духовенства, одного из представителей которого покойный граф М. Н. Муравьев* остановил от такого труда самым энергичным образом. Малообразованное и вообще неповинное в знании отечественной истории общество русское сочувствовало и чуть не рукоплескало таким нападкам на рабовладельчество дворян, что, конечно, весьма понятно; но странно, что во все это время никому не пришло в голову, что у нас отнюдь не одни же дворяне повинны в недостойном рабовладельчестве, что у нас точно так же, как поместные дворяне, владели крепостными людьми и купцы, и духовенство, и чиновники, приписывавшие «своих людей» к городским домам и к капиталам, и даже однодворцы, которые и по своему воспитанию и по образованию, и по образу жизни были такие же крестьяне, как и та «крещеная собственность», которою они владели на всех помещичьих привилегиях. Этого у нас словно не знали, да, кажется, и в самом деле очень многие не знали, несмотря на то, что отобрание крестьян от однодворцев происходило на живой памяти живущего поколения, которое еще не признает себя старым. Не вспомянуто было ни однажды и того, что все разночинные рабовладельцы освободили своих крестьян по указу, а (как бы там ни было) не по доброй воле, и освободили их без земли, в полную бесприютность, а некоторые даже (однодворцы) прямо на высылку на Кавказ и на Мангишлакский полуостров.
«Московские ведомости» недавно выразили ту мысль*, что нашему обществу небесполезно еще высказывать и повторять самые общеизвестные истины, — это можно принять и развить гораздо далее: для очень многих людей нашего общества, претендующих на звание людей образованных, действительно совершенно впору и в пользу было бы, если им под видом новостей сообщать в современных изданиях рассказы из русской истории и даже из истории священной, так как у нас очень многие воспитанные люди делают непростительные промахи даже против последней, заключаемой преподаванием во втором классе гимназии.[7]
С тою же основательностью, с какою нападает человек на человека, или сословие на сословие, или даже нация на нацию, нападает даже и одно время на другое. Не вдаваясь в сопоставление многообразных и многоразличных нелепиц в этом роде (в чем невозможно встретить никакого недостатка), укажем на один пример, черпаемый не из истории, а из живого факта, и притом приводимый не нами, а другим лицом, для нас совершенно посторонним, но имеющим свое достойное общественное положение и притом высказавшим совершенную истину.
На сих днях в С.-Петербургской судебной палате разбиралось дело по обвинению некоего издателя* Щапова в издании писем Луи Блана* об Англии. (Отчет по этому делу и защитительная речь присяжного поверенного г. Спасовича*, к которой мы хотим обратиться, на этой неделе уже были напечатаны в нашей газете.) Обвинение было весьма сложное и, как суд признал, весьма неосновательное; но этому всему уже было свое время и свое место. Здесь мы упомянем только, что на судоговорении по этому делу даровитый защитник обвиненного и его интересов нашел возможность убедить всех, что в словах Луи Блана о том, что «две тысячи лет как искупитель пришел, а искупление еще не совершилось», нет ничего противного истине, так как две трети человеческого рода еще не исповедуют Христа, да и из исповедующих его великое большинство исповедует христианство лишь одними устами, а сердцем отстоит от него далече. Это казалось как бы новостью! Век наш похваляется ясностию взгляда и гуманностию, а между тем на деле на его очах лежит своя слепота, на душе его своя алчность и злопомнение, на сердце жестокость, в обычаях лукавство, возводимое даже на степень науки (дипломатия), в крови месть, и месть злостнейшая всякой вендеты* уже не по тому одному, что она даже не удовлетворяется никаким отмщением, но потому, что она живет не чувством нанесенной нестерпимой обиды, а позорным чувством нетерпимости к чужому мнению, несогласному с нашим мнением.
В этом отношении XIX век (в нашем отечестве) не лучше многих пережитых Россиею веков, а очень многих положительно хуже, и кичение ему поистине не довлеет.
Среди наилучших учреждений, каких страна наша до сих пор никогда не имела и которые ныне имеет, общество упорно отказывается дать свидетельство своей толерантности* по отношению к людскому разномыслию, разночувствию и разностремлению, а в то же время само в собирательном составе своем не обнаруживает, чтобы оно опиралось на твердой почве самостоятельных мнений, и в несогласном шуме своем напоминает лишь ветром колеблемые трости.
Во всяком случае все это знамение не той высокой цивилизации и не того гуманного развития, которые позволяли бы нашему веку кичиться его кичением. Путь предстоящего нам развития еще очень велик, и задачи, предлежащие обществу к разрешению в духе, благодеющем преуспеянию человечества, многи.
Один из современных наших беллетристов печатает в настоящее время в одном из журналов роман, который называется «Панургово стадо»*. В этом «Панурговом стаде» автор изображает наше общество с его стадными склонностями метаться из стороны в сторону. Задача этого романа и даже самое его заглавие, конечно, очень нелестно для общества, которое дало автору для такого сочинения типы и мотивы, но, по пословице, «нечего пенять на зеркало, когда лицо криво».
С тех пор как мы имеем гласные суды*, в них уже разобрано немало литературных процессов; но никогда процессов этого рода не скоплялось одновременно столько, сколько собралось их в настоящее время. В газетах опубликован целый длинный ряд дел о литераторах, обвинения которых будут рассматриваться одно вслед за другим.
По настоящему судя, нет, конечно, в этом ничего дивного и ничего странного: мир велик, и, живучи с людьми, на всех не угодишь, а народная мудрость завещевает человеку не зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы, а тем паче от суда человеческого. Суд не обида, обида — бессудье, а в силу того суд и не укоризна тому, кто к нему привлекается. Так на это дело смотрят во всех странах мира, и так же точно смотрят на это и у нас по отношению ко всем людям, кроме людей литературных. Тут общество относится к делу несколько иначе, и едва ли относится правильно.
Общество наше хотя и не видит в литературных процессах прямого бесчестья для привлеченных к суду литераторов и жадно устремляется наполнять судебные залы при разбирательстве литературных процессов, но оно все-таки усматривает в этих судбищах нечто компрометирующее литературную среду; нечто низводящее ее в обыденную, низменную сферу; нечто роняющее литераторов в общественном мнении и, так сказать, вменяющее их со беззаконными, для которых в залах судилищ утверждена скамья подсудимых.
Если бы сторонний нам чужеземец, не знающий всех сформировавшихся и окрепших отношений нашего общества к литературе и литературы к обществу, наблюдал только один приведенный нами взгляд без всякой связи с иными явлениями, то он, без сомнения, имел бы право заключить, что литературные занятия нигде так высоко не чтимы, как в России, и что общество наше ревниво дорожит репутациею своих писателей и считает их людьми, которые стоят
Превыше мира и страстей*.
Повторяем: чужеземец был бы совершенно прав, придя к такому выводу; но мы, «судьбину испытавшие себе на тягостную часть», мы, увы! должны чувствовать и умозаключать иначе.
Мы положительно можем сказать, что ни особой любви, ни особенного внимания в русском обществе к русской литературе и русским литераторам нет. По крайней мере, нет их далеко в той степени, в какой пользуются ими у своих соотечественников литераторы английские, французские, немецкие и польские.
Доказательств этому бездна, и на некоторые из них литература наша указывала. Так, было, например, говорено о том воодушевляющем сочувствии, которое недавно английское общество выразило Чарльзу Диккенсу при его отъезде в Америку, где он читал свои произведения. Указываемо было не раз на внимание публики иностранной и к другим писателям относительно меньшего значения, как, например, на симпатии французов к Виктору Гюго или немцев к Бертольду Ауэрбаху*. Было тысячекратно заявляемо о горячих чувствах к личностям, которых и вовсе нельзя ставить наряду с упомянутыми именами, но которые, однако же, все-таки обращали на себя внимание своего общества: таковы, например, Рошфор*, Шпильгаген* и др. Все эти писатели действительно могут сказать, что они пользуются вниманием своей страны. В одном из наших журналов как-то было с тщанием рассказано о том, с каким вниманием германское общество следит за каждым маленьким своим писателем, добросовестно отмечая ему всякое усовершенствование в его трудах и таланте. Так у опередивших нас по старшинству цивилизации народов не пропадают, не забиваются и не гибнут безвременно никакие силы, а все идет впрок, все складывается в общую корванну*, — и червонец богача по силам и лепта литературной вдовицы. Если обратимся к своим братьям славянам, то у них увидим даже крайность превознесения, равную разве лишь нашей крайности угнетения сил и принижения русских талантов. Отношения чехов и моравов к своим народным писателям почти священные. Злословие писателя здесь так же редко, как у нас доброе слово о пишущем человеке. Поляки тоже отменно дорожат своими литературными деятелями, и это относится не к одному Мицкевичу*, или даже к Красинскому*, Вицентию Полю*, или Сырокомле*, Корженевскому*, или Крашевскому*; но это идет до Викентия Каратыньского* и других подобных последнему писателей, ему же равных по силам и дарованиям у нас легион писателей, захаянных и изруганных всеми ругательствами. В странах, на которые мы сослались, так же как и у нас, помимо таланта автора ценится и принимается в расчет симпатичность или антипатичность его направления, и там, как и у нас, ни один писатель не угождает на все вкусы и не рабствует всем направлениям, но это несогласие автора с тем или другим кружком, с тем или другим «веянием» (как выражался покойный Григорьев*), не вменяются человеку в бесчестие, дающее право взводить на него были и небылицы, даже злостные и позорные клеветы, для того только, чтобы таким достойным способом вредить ему в общественном мнении, уже не только как писателю, но даже как гражданину и человеку. В английском обществе есть очень много людей, весьма недружелюбно относящихся к деятельности Диккенса, недовольных Байроном было еще более; у Виктора Гюго тоже немало недоброжелателей во Франции, а у Лагероньера*их еще более; Иосиф Фрич* в последние годы нажил себе своим русофобством очень много врагов между чехами; в Галичине за многое начинают строго укорять Шевченко и еще более Кулиша*, а в Польше одно время с большою враждебностью относились к Корженевскому, но во все эти времена ни против одного из этих людей, ни прямо, ни не подсудным, но нравственно ответственным для честного человека намеком, не высказано миллионной доли того, что и тем и другим способом наговорено у нас писателями одной партии на писателей другой, в чем, разумеется, прежде всего должно видеть на одной стороне следы исторически развитого понимания и деликатности иноземцев и знания ими границ свободы слова, а на другой — недостаток этого знания и этого понимания у нас в России.