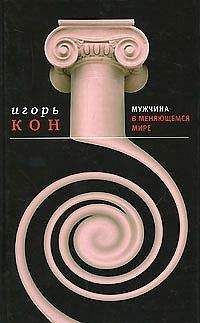Михаил Осоргин - Времена
Описать в романе клокочущую страсть - это ведь совсем не трудно! Есть столько превосходных литературных образцов, столько приемов, столько прилагательных! Картины падения в то время заменялись двумя строками точек, а подробно описывались только нравственные страдания. К своему стыду и счастью, должен признаться, что мои собственные понятии о падении были чрезвычайно туманны. Теоретически технику падения я, конечно, знал - среди нас были "падшие",- но никак не мог совместить ее с чувством любви, которое должно быть трепетным и высоким. Тут была неувязка. На любовь бросалась некая тень: очевидно, любовь не очень приличное чувство и признаваться в нем не следует. В восемнадцать лет я был уже много раз влюблен, но, черт возьми, поцелуи мне не были ведомы. Мне кажется, что один раз я поцеловал руку Катеньке, хотя боюсь, что я только задел ее нечаянно, даже не губами, а щекой. Впрочем, я держался так, как будто все это мне не только известно, но и порядочно прискучило. Из-за Катеньки я и дрался на дуэли - из-за гадких слов о ней и обо мне. Когда мне было девять лет, моя старшая сестра - на восемь лет меня старше - выходила замуж. Я был очарован ее женихом, казавшимся мне идеалом мужчины. Однажды вечером, когда меня уже уложили спать, хотя у нас были гости, в мою комнату, освещенную лампадкой, тихо вошли сестра и ее жених; вероятно, им хотелось остаться вдвоем. Они сели на стулья против моей кровати и стали шептаться, боясь меня разбудить. Но я проснулся и смотрел на них с интересом. Вдруг жених быстро обнял сестру и хотел ее поцеловать; она ловко увернулась и погрозила ему пальцем, а у него, как мне показалось, отвисла губа и лицо стало противным; жениху сестры было уже за тридцать, ей семнадцать. Потом они ушли, хотя он пытался еще задержать сестру в полумраке моей комнаты. С этого вечера я перестал его боготворить и уклонялся от его шуток и ласк. В любви есть что-то стыдное. И действительно, над влюбленны-ми смеялись, и они краснели. Объектом постоянных насмешек гимназистов был наш учитель немецкого языка, Шмидт, или Фукс, или еще как-нибудь, который был безнадежно влюблен в пухлую немочку, дочь учителя женской гимназии. Он был так влюблен, этот рижский немчик с тараканьими усами, что плакал, читая нам вслух стихи Шиллера и Гейне, и вытирал глаза платком, надушенным немецкой гадостью. И случилось, что я стал его соперником - совершенно помимо своей воли; на гимназическом балу я танцевал с его любовью, и она не заметила его почтительного поклона. Он не только приревновал меня, но и искал случая меня оскорбить и унизить. Случай подвернулся легко, так как я терпеть не мог и отвратительно знал немецкий язык. Он стал ко мне придираться, вызывая всякий урок, передразнивая мое произношение, и однажды, распылавшись, велел мне выйти к классной доске и стоять около нее до конца урока. Это было настоящим оскорблением, потому что меня никогда никто не наказывал, даже в младших классах; одна такая попытка кончилась моим нервным припадком. Но поставить к доске восьмиклассника - это вообще было дерзостью. Я побелел и холодным голосом Ольги из своего уничтоженного романа сказал: "Я вызываю вас на дуэль и убью, как таракана!" Затем я медленными шагами вышел из класса и ушел домой. Из этой истории победителем неожиданно вышел я. Немец заявил директору, что честь заставляет его принять мой вызов на дуэль. Директор схватился за голову, вызвал меня и, догадавшись о моем настроении, торжественно мне обещал, что Фукс оставит меня в покое и будет спрашивать у меня урок только один раз в четверть и в тот день, когда я подам ему знак, "приветливо кивнув гловой". Такое пристрастное решение было вынесено, очевидно, потому, что я, считая свои корабли все равно сгоревшими, подтвердил директору свое намерение убить в честном бою немецкого учителя. Условие было соблюдено, и в первый выбранный мною день я отбарабанил Фуксу вызубренную наизусть "Перчатку" Шиллера,- мы, черт возьми, знали, что такое рыцарство! А он таки женился на своей немочке,- в конце концов, симпатичный и невиннейший таракан! Уже студентом я был на его свадьбе, мы выпили брудершафт и пели гортанными голосами охотничью немецкую песню про старый лес.
Меня отвлекают эти сценки - но, может быть, они лучше рассуждений поведают о жизни чувств, о том, как слагаются в душе юноши представления о самом серьезном в нашей жизни - о любви к женщине, о любви вообще. Могу ли я удержаться от скромного образа любви материнской - постоянная забота издали, чтобы не стеснить юноши, которому хочется казаться взрослым; скрыванье бедности под белоснежно-чистой скатертью; неназойливая чуткость робких советов, как будто случайных, но всегда вовремя и кстати. Надломленная личным горем,- потому что она не может забыть того, что для нас, молодых, быстро тушуется интересами жизни,- для семьи держится прямо, блюдет достоинство, твердо надеясь, что вот и оставшиеся при ней дети выйдут в люди и тогда она замкнется в мир воспоминаний, тихо старея и готовясь отбыть для встречи с человеком, любовь которого определила ее жизнь. Когда умер мой отец, мать была - или казалась - еще совсем молодой, без единой морщинки, единого седого волоса, хотя уже была бабушкой. Такою же продержалась еще десять лет, несмотря на много горя, доставленного ей детьми, о чем не рассказывает. С утра в корсете, упрямая институтка, всегда одетая с изящной простотой, приветливая с гостем и прислугой, строгая и важная в отношениях с людьми, перед которыми другие заискивали, она ни перед кем не призналась бы, что ее сердце источено горем и что она безмерно устала жить. Такою она осталась и одна, когда я, последний из детей, уехал в Москву; приезжая на каникулы, я находил ее такой же выдержанной, готовой интересоваться всем, что занимает ее детей, читавшей столичные газеты и журналы и по старой привычке ежедневно занимавшейся четырьмя иностранными языками - французским, немецким, английским и польским,- знание которых она не имела случая применять на практике в провинциальном городе. Она состарилась в один год, даже в одну зиму - и умерла в тревожном пятом году, узнав, что я в тюрьме и мне угрожает казнь. Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, что он в своей памяти, рядом с этой любовью, записал и чувство непримиримости к тем, кто как собственностью швыряется человеческими жизнями. Непримиримость навсегда, до сего дня, до смерти.
Я много раз замечал, что о наиболее отдаленном, о детстве, вспоминается с полной ясностью, какой годы юности не дают. Тот простой мир зарисовался домиком, елочкой, игрушкой, зайцем, у которого одно ухо опущено, горем, сверкнувшим молнией,- и опять небо ясно и мир улыбается,маленькой, любимой, единственной книгой, шуткой отца, первой выпиленной рамкой из крышки сигарного ящика,- вообще всем тем, что отчетливо своей первостью и дальше уже неповторимо в такой же радости. Мы часто шутя говорим детским языком - и никогда не подражаем ломающемуся голосу юноши. Помнятся сказки - и не помнится пора их крушенья. Рисунок путается и теряет чистоту красок. Дым из трубы уже не вьется штопором, у собаки хвост не загнут колечком, у первого портрета нет египетского глаза и турецкой брови, негнущаяся рука не растопыривает кисточкой длинные прямые пальцы. Образы юноши хотят быть возможно реальнее в своем шаблоне, и в них перспектива уже убивает прекрасный иероглиф изображений. Детский карман наполнен первичными ценностями личного значения: найденной пуговицей, закушенным яблоком, бабкой, мелом, огрызком карандаша, свистулькой, самостоятельно вырезанной из вишневой ветки; но юноша уже несет чемодан или швейцарский мешок с набором усвоенных истин, алфавитом склонностей, коллекцией дешевых парадоксов. Ему подобает быть немножко циником, забегать вперед в отрицаниях, прислушива-ться к росту волосков на верхней губе, мечтать о пенсне и тросточке - символах взрослости. Моя ранняя молодость протекала в сравнительно счастливое время, когда не было кинематогра-фа и площадок для отбивания головой кожаного шара, не было даже велосипедов; недотяпан-ность и простота провинции была по крайней мере цельной и не опошлялась мировым экраном, газеты не заманивали авантюрным подвалом. Не избалованные выбором, мы читали лучшее, что было в русской литературе, потому что оно раньше и проще всего попадало в наши руки. Но что давало нам увлечение литературой? Искусственные образы, прикрашенное словесными узорами изображение идей и чувств. Мы любили по Пушкину и страдали по Достоевскому, выписывая закругленную фразу там, где естествен только крик радости или горя, привыкая к прописям раньше, чем в нас слагался собственный язык для выраженья нами открытых чувств. Может быть, это вообще неизбежно в культурных общественных рядах, где кустарник и деревья непременно стригутся под гребенку - и сад предпочитается лесу. Но я все-таки жалею, что гимназия, город, литература отвлекли меня от природы, которая в ранние детские годы, особенно в летнее время, заполняла мой мир целиком; жалею и о том, что мало знал окраинные улицы, быт бедняков, желтый дымок спичечных фабрик, которых было несколько в наших окрестностях, и только раз побывал на пушечном заводе, где директором был отец моего одноклассника. Не знаю, ясно ли я выражаю свою мысль: мы несравненно лучше знали жизнь по романам, чем по личным с нею встречам. Вероятно, потому образы моей юности так бледны и так охотно забылись, и иногда мне кажется, что прямо из ребячества я попал в университет. И потому я упрямо миную гимназический быт, о котором другие рассказывают так красочно и так хорошо. В моей памяти отчетливо сохранилась только одна картина - не столько в фактах, сколько в отголоске пережитых ощущений, и это - картина какого-то странного патологическо-го массового взрыва, безрассудного бунтарства, вероятно вызванного припадком безнадежной скуки и жажды чего угодно, но только нового, хотя бы катастрофы.