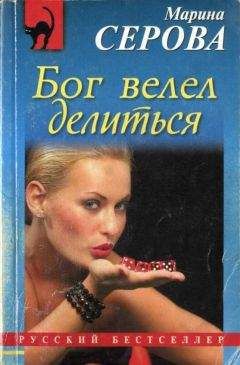Юрий Тынянов - Пушкин
8
- Ты, друг мой, отвернись к стене да по сторонам глазами не води, не то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно, ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать, все пересказала. А в окошко не гляди - и того хуже не заснешь. В городе хуже, не спится, в деревне лучше, летом в окно клен лапой влезет, и заснешь; зимою тоже деревья. А здесь фонарь и фонарь. Стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Левушка, и Николинька, тебе одному сна нет. ...Едем, едем - и вдруг рыдван наземь. Соскочила скоба. Дед говорит мне: пойдем пешком. Я отвечаю: не привыкла. Я вовсе не с тем ехала, чтоб пешком впервые в дом являться. Кой-как заткнули скобу. Дед очень оробел перед самыми воротами и огорчился: "Если он на вас шишкнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я. Тогда простит". [73] Он очень боялся отца - женился на мне не спросясь. Я сказала: я не таких правил, чтоб на меня, друг мой, шишкали. Я не могу пасть на колени. А он говорит, что в Африке и все так делают и не считается за бесчестье. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения, слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с рыдвана. У Иришки переоделись, он в мундир, я надела материны жемчуга - все потом прожила. Послали к старику спросить, примет ли. Ждем Матрешку час, другой - нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте. Матрешка приходит в слезах: ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, и я не спала - как ты. Назавтра я объявляю, что еду назад, к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед - в мундире, при шпаге - пал на колени. Но я все стою; только глаза опустила. Подняла глаза и вижу - старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное - и не черное, а желтое; ноздри раздул. Смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно, я вскричала и повалилась. Очнулась - вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала, а он засмеялся, но только с принуждением. "Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я николи еще женщин так не пугивал". Он был любезен. Но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все была искорка. ...А что потом было... Ничего потом не было... Потом нечего рассказывать. Дед? Умер твой дед, нет его. Спи. Да глазами-то по сторонам не води. Ну, уж я не слажу с тобой. Пусть Ирина сказку скажет или песню эту твою споет. Мочи нет как надоел...
9
Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели в ногах. Не глядя на него, медленно покр?хтывая, позевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом [74] в Михайловском, у деда Осипа Абрамовича, у мельницы, внизу - водяной, девки его видели. В Тригорье жил леший, тот был простец, его все видели. Он мастер был аукаться. Была одна девушка, рябая, у дедушки, у Осипа Абрамовича, ходила в лес по бруснику. Как звали - все равно, нечего ее поминать; он с ней аукался и защекотал. Вся душа смехом изошла. Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете, и вас защекочет. Ну не леший, так домовой. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет: спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели - и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего, Михайловской округи.
10
Их водили гулять всех вместе, табором, как говорила Марья Алексеевна, - Олиньку, Александра, Левушку и Николиньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его: "Арапчонок!" и убегали в переулок. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, гнев проходил быстро, как начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал. В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит и все уйдут далеко. В открытом окне, напротив, сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуге в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо вгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят "арапчонок". Он пробормотал, как тетка Анна Львовна: - Что зубы скалишь? И пошел догонять своих. Александр никогда ни с кем не говорил о деде-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонком. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял и думал, что Александр спрашивает о его отце. Льве Александровиче. Он со вздохом отвечал, что давно и что это был человек редкой души: [75] - Любимец общества! Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать, потом нахмурился и, собравшись с духом - дело было в присутствии Марьи Алексеевны, - объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин и никто более. - И бабушка твоя - Пушкина, и мать. Марья Алексеевна молчала. Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда, бледный как полотно: - Пропала! Оказалось, пропала родословная, целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверт запечатал родовою печатью, ящик стола запер на ключ, а там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суйды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их. - Там бумаги секретные, - сказал он скороговоркой и нахмурившись, ...масонские. Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов. Наконец грамоты нашлись, свитки были в полной сохранности, Сергей Львович просто запамятовал, что запер их не в стол, а в особый шкапчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал. Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру. - Изволь посмотреть сюда - видишь печать? Это большая печать. Письмо старое, но мне говорили, что здесь за войну с крымцами жалуется вотчина, двести четвертей или около того. А это - судебный лист; это, впрочем, неважно. И, понизив голос, Сергей Львович сказал сыну: - Твой дед этою грамотой вовсе уволен от службы, в абшид(1) за болезнями. Это было, впрочем, более дело государственное. - ----------------------------------------(1) Отставку (от нем. Abschied).
[76]
11
Когда ему было семь лет, дом разом и вдруг распался. Марья Алексеевна давно махнула рукой на зятя и дочь. Крепилась-крепилась и однажды решилась: наскребла вдовьих денег, достала из шкатулки какие-то закладные и рядные, ездила куда-то, суетилась и вернулась радостная: купила подмосковную. Усадьба была в Звенигородском уезде, с тополями, садом, церковью, все как у людей. Звалась она чужим именем: Захарове, да не в имени дело. Службы и дом каменные, дорога не пылит, цветник, роща, а деревня под горой, и богатая, много девок и овсы. Милости просим на лето с детьми; а сама она, живучи в Москве, голову потеряла от пыли, вони, шуму. Аришку оставляет при барчуках, а с нее хватит. Никто ее и не удерживал. Осенью пришла долгожданная весть: Осип Абрамович скончался и оставил Надежде Осиповне село Михайловское.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
В последние годы старый арап безобразно растолстел. Походка стала еще легче - он ходил как бы приплясывая, неся тяжесть своего живота. Последние месяцы, однако, ходить уж не мог и сидел у окна в больших мягких креслах, обитых полосатым тиком, откинув назад голову и задыхаясь от жира, старости и болезней. Здесь он и спал. С братом Петром Абрамовичем он был в ссоре из-за денежных счетов, и все его покинули. Барская барыня Палашка правила домом; говорили, что от времени до времени она еще сгоняла к барину девок плясать и петь песни. Но теперь он становился все тише, все равнодушнее и часами следил за полетом мухи и скрипом телеги за лесом. В груди его также скрипело. Стояла осень, красные, в окне, клены и желтые восковые березы осыпались перед самым окном. Дожди уже прошли, и было сухо. В одну ночь его скрутило. Он мычал таким страш[77] ным голосом и его так подбрасывало, что Палашка к утру послала в город за лекарем. Лекарь, осмотрев больного, запретил ему есть зайца, так как заяц возбуждает похоть, и приказал пить по вечерам декохт. - Истребите из сердца все досады, - сказал он ему. Старик лежал в креслах, лицо его было тусклое, он смотрел бессмысленно; глаза как в дыму. И вдруг, помимо его воли, самостоятельно, отдельно от него, начиналось в груди хрипенье, бульканье, свист, и живот начинал ходить ходенем. Он дышал сипом и криком, как кричат ржавые затворы, когда их проверяют. Отдышавшись, он спросил лекаря: - Сколько мне времени жить? Лекарь ответил: - Вам, ваше высокоблагородие, жить два дни. Старый арап легким движением вдруг подскочил в креслах Скрип прекратился. - Врешь, - сказал он лекарю и показал ему кулак. Потом, оборотясь к Палашке, приказал: - Гнать его и денег не платить. Вон! Он полежал с полчаса совершенно неподвижно, трудно дыша. Потом стал глядеть на отцовский портрет. Абрам Петрович был на портрете с желчным лицом, цвета глины, с анненскою лентой через плечо, в генерал-аншефском мундире. Он приказал убрать портрет на чердак. Потом велел стопить баню и нести себя туда. В высоких креслах полосатого тика понесла его дворня через весь двор на плечах. На самом пригорке он велел остановиться, осмотрелся кругом и впал в задумчивость. Несли его пять человек - старик был грузен; сзади шла Палашка. В бане он не стал париться, а полежал в предбаннике. - Попарь-ка меня, - попросил он Палашку. Палашка хлестала его горячим веником по черным плечам: он храпел и кашлял. Становилось темно. Он велел нести себя на конюшню В конюшне было прохладно, покойно. Три жеребца стояли в глуХИХ загородках и, тяжело посапывая, перебирали ногами. Самый горячий, который закусал конюха, был на цепи, как злодей. Кобыла пила воду, мерно храпя. Он покормил ее с руки овсом, который она шумно, со вздохом, убрала мягкими губами. [78] - В два дня! - сказал он ей о лекаре. - Дурак! Вернувшись домой, он приказал принести все шандалы, какие есть в доме, и зажечь все свечи. Потом велел набрать листвы в роще и нанести в горницу. - Для глаза, и дышать легче. Палашка поднесла ему вина, но он пить не стал и только пригубил. Вспомнив о вине, сказал принести все, что еще оставалось в погребе, в гостиную. - Девок, - приказал он Палашке. Господский дом ярко светился и далеко был виден. - Опять загулял, - говорили в деревне. - Смерти на него, дьявола, нет. Все аннибаловские старухи и старики считали старого Абрама Петровича и самого Осипа Абрамыча с братцем Петром Абрамычем дьяволами. Одна старуха говорила, что у старого Абрама Петровича были еще когти копытцами. Дворовые девки были у Осипа Абрамыча блудным балетом; они плясали перед ним во времена его загула. Музыканты были у него свои - один лакей играл на гитаре, двое пели, а казачок бил в бубны. Он заставил Палашку всем поднести по стакану вина и махнул музыкантам. Музыканты разом ударили его любимую. - Машка, выходи, - захрипел он. Маша была его первая плясунья. Арап сидел с полузакрытыми глазами. - Безо всего, - сказал он. Плясала Маша без всего. Он хотел было подняться, но не мог; только пальцы шли у него и дрожали, как подрагивала бедрами Маша, да двигались губы. Музыканты все громче и быстрее играли его любимую, казачок бил в бубны без перерыва, Маша все дробнее ставила ноги. - Эх, лебедь белая, - сказал старик. Он взмахнул рукою, загреб воздух полной горстью, крепко сжал пальцы и заплакал. Рука его упала, голова свесилась. Слезы текли у него прямо на нижнюю толстую губу, и он медленно глотал их. Когда пляска кончилась, он велел раздать дворне все вино. Потом подумал и приказал половину оставить. - Овса сюда, бадью, - приказал он. Вином наполнили при нем бадью, овес намочили в вине. - Лошадям корм задавать! - Окна открывай! [79] Лошадей кормили на конюшне пьяным овсом. - Злодея на волю! Коней отпускаю! Ветер ходил по комнате. Он сидел у раскрытого окна и ловил ртом ночной холод. На дворе было темно. Со звонким ржаньем, мотая головами, выбивая копытами комья земли, пронеслись мимо окон пьяные кони. Он засмеялся без голоса в ответ им: - Все наше, все Аннибалово! Отцовское, Петрово - прощай.