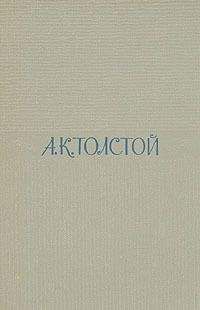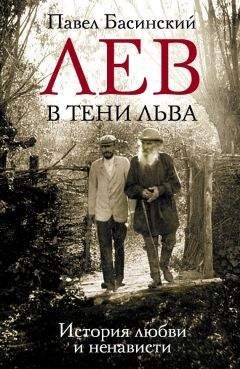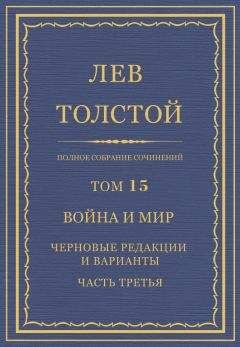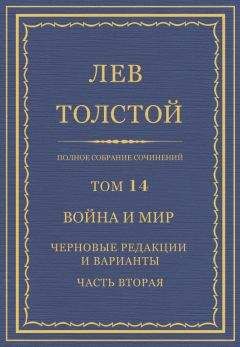Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
[В рукописи нехватает одного листа]
действительно теперь нельзя было ошибиться.
В толпе, между полицейскими всё зашевелилось и затихло; полицимейстер в ленте и звезде приложил руку к шляпе, карета одна, гремя по очищенной дороге,[237] подкатилась к крыльцу, и из кареты легко лаковым сапогом с шпорой ступил на красное сукно высокой мущина в мундире с поднятыми плечами. Шапки снялись, по всем пробежал трепет, в особенности Анатоль, сам не зная отчего, почувствовал в сердце вдруг чувство радости, ожидания чего то и зависти, и знакомая народу фигура государя с зачесанным затылком и взлизами, с высокими эполетами и андреевской лентой из под шинели, быстро показалась и скрылась в освещенном подъезде. Государь в руке держал шляпу с плюмажем и что то мельком сказал проходя вытянутому и наклоненному полицимейстеру. Каждое движение, каждая принадлежность были замечены сотнями глаз. Государь прошел.[238] Шимко радостно оглянулся на всех, потом тяжело вздохнул и почему то почти вслух[239] сказал про себя следующую фразу: Je le souhaite, sire! Oui, je le souhaite de tout mon coeur.[240] Из за окон пронеслись стройные звуки прекрасного оркестра, и из за освещенных окон и опущенных гардин зашевелились двигающиеся тени. Анатолю стало очень грустно. Он всё смотрел.
— Ну чего смотреть, пойдем, — раздался подле него хриплый голос мастерового к своему товарищу. Анатоль опомнился.[241] Он повернулся,[242] взмахнул тросточкой и, молодцовато раскачиваясь, пошел по направлению к Невскому. — Je le souhaite, sire, de tout mon coeur, — всё твердил он про себя.
2.
<Как! на бал?! ты не хотел ехать,— сказал Анатоль, на крыльце дома встречая князя Криницына, садившегося в карету, и нарочно ударяя на ты, чтобы кучер и лакей [слышали], что он говорит «ты» их барину.[243]
— Надо ехать по многим причинам, — отвечал по французски красивый юноша в бальном костюме, останавливаясь перед дверцой кареты. — Поедем, довезу до дому.
— Как поздно! Я проходил мимо, государь проехал.
— Поедем что ли? — нетерпеливо крикнул Криницын. — Или нет, слушай, ко мне хотела приехать Мими, я от нее бегу. Утешь ее. Сиди у меня. Ернест, напойте его чаем, — крикнул он провожавшему лакею французу и, вскочив в карету, молодой князь нагнулся головой над перчаткой, которую он застегивал, придвигая ее к фонарю. — Смотри, Шимка, утешь и дождись меня, все расскажи, — крикнул он еще из дверцы, веселым успокоившимся тоном, после того, как застегнул перчатку и уселся вглубь кареты.
Петр Криницын был второй и меньшой сын известного сановника того времени, только нынешней зимой вернувшийся из за границы с братом, куда они под руководством l'abbé Musard были посыланы отцом для окончания блестящего воспитания. Оба молодые человека по своему положению и воспитанию обращали на себя внимание тогдашнего света.>
* № 7 (рук. № 49).
Пишу о том времени, которое еще[244] цепью живых воспоминаний связано с нашим, которого запах и звук еще слышны нам. Это время первых годов царствования Александра в России и первых годов могущества Наполеона во Франции.
Время[245] между французской большой революцией и пожаром Москвы, то самое время, когда революция[246] эта перестала быть идеей и стала силой, уже не спорившей, не доказывавшей, но материально дававшей себя чувствовать каждому, как[247] подземный огонь, переставший светить, но начавший разрушать беспричинно и бессмысленно, как это казалось людям того времени,[248] то время, когда карта Европы перерисовывалась каждые две недели различными красками, голландцы, бельгийцы, итальянцы и маленькие немецкие народцы решительно не знали, какому политическому богу кланяться, в то время, когда маленькой человечек, в сереньком сертучке и круглой шляпе, с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами, воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее, когда этот человечек старался раздуваться в сообразное, по его понятиям, величие положения и, несмотря на умную и твердую натуру,[249] при первом прикосновении земного величия, человеческой лести и поклонения, потерял свою умную голову и погиб,[250] надолго еще оставаясь для толпы чем то страшным и великим.
Видали вы ребенка, которого посадил старый кучер рядом с собой на козлы и позволил ему держаться за вожжи, воображая, что он правит лихой и могучей тройкой. Кони бегут быстрее и быстрее, дорога скользит под ногами, топот сливается в один одуряющий гул, брызги летят из под копыт, ветер режет лицо, развевает волосы и срывает шапку, дух захватывает; милому мальчику весело, он боится, но перенимая у ямщиков, представляет вид лихого, покрикивает, махает рученками.[251] Бедняжке кажется, что он всё делает, что он единственная причина быстроты, с которой несется тройка, он смутно верит этому, но с презрением и гордостью поглядывает на воза и пешеходов, и[252] несется всё шибче и шибче, прохожий любуется на бедного мальчика и похвалами разжигает его, но лошади несутся[253] еще шибче, мальчику жутко, он закрывает глаза, и старый кучер берет вожжи, «Довольно, будет с вас, барин», и кучер остановил лошадей, «а вы подите к нянюшке».
«А правда, что я так правлю, как самый лучший ямщик! Лучше всех на свете?»
«Правда, правда. Ступайте, будет».
[254] То самое время, когда у нас в России человечка с маленькими ручками и орлиным носом звали Буонапарте, как научили нас тому эмигранты, составлявшие украшение наших гостиных, когда в дипломатических актах называли его «cet homme»,[255] когда отвращение к святотатцу, осквернившему престол святого Лудовика и мученика Лудовика, соединялось с презрением к нему, в то время, когда после убеждения, что он не посмеет... он вдруг посмел схватить в чужом городе, невинного и влюбленного, счастливого юношу и велел во рву убить его, как собаку, за то, что юноша этот был родня королю мученику. То время, когда le duc d'Enghien и la catastrophe, le meurtre, l’abominable meurtre d’Ettenheim[256] был на устах каждой чувствительной особы высшего круга, в то время, когда молодой, любезной, красивой монарх Александр I[257] решил устроить судьбы Европы, остановить les envahissements de cet homme,[258] заключил союз с Австрией и решил, что, победив Буонапарте,[259] в победе нельзя было сомневаться, французам будет предоставлена свобода избрания того образа правления, который они найдут для себя лучшим, и купленные имения эмигрантов останутся в руках владельцев. Всё было тонко предвидено. Опять ехала другая тройка навстречу и правил ей опять не тот кучер, которого все видели на козлах, а всё тот же старый, старый старик, везущий по своему и правящий миром со времен Алкивиадов и кесарей.[260]
Но не Наполеон и не Александр, не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду писать историю[261] людей, более[262] свободных, чем государственные люди,[263] историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни,[264] людей, свободных от[265] бедности, от[266] невежества и независимых, людей, не имевших тех недостатков, которые нужны для[267] того, чтобы оставить следы на страницах летописей, но глупой человек не видит этих следов, не выразившихся в мишурном величии, в книге, в важном звании, в памятнике, он видит их только в дипломатическом акте, в сражении, в написанном законе.[268] Он видит их только в том насильственном зле, которому суждено нарушать спокойное течение человеческой жизни, и он записывает эти события в свою летопись, воображая себе, что он пишет историю человеков. Люциан Бонапарт был не менее хороший человек, чем его брат Наполеон, а он почти не имеет места в истории. Сотни жирондистов, имена которых забыты, были еще более хорошие люди. Сотни и тысячи не жирондистов, а простых людей Франции того времени были еще лучшими людьми. И никто их не знает. Разве не было тысяч офицеров, убитых во времена войн Александра, без сравнения более храбрых, честных и добрых, чем сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов?
Разве присоединение или неприсоединение папской области к французской империи на сколько-нибудь могло изменить, увеличить или уменьшить любовь к прекрасному работающего в Риме художника? Или изменить любовь его к отцу и к жене? Или изменить его любовь к труду и к славе?
Когда с простреленной грудью[269] офицер упал под Бородиным и понял, что он умирает, не думайте, чтоб он радовался спасению отечества и славе русского оружия и унижению Наполеона. Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил, о всех радостях и ничтожестве жизни, он поверял свои верованья и убеждения: он думал о том, что будет там и что было здесь. А Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян, — всё это ему казалось жалко и ничтожно в сравнении с теми человеческими интересами жизни, которыми мы живем прежде и больше всего и которые в последнюю минуту живо предстали ему.