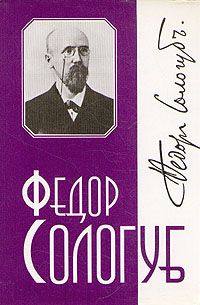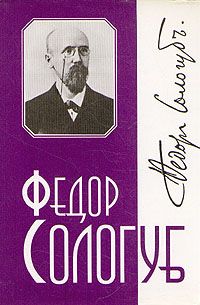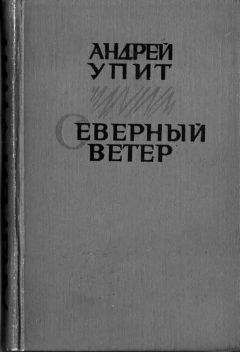Федор Сологуб - Тяжёлые сны
Когда чтение окончилось, спорили еще долго о названии общества: Коноплев предлагал назвать его дружиною, Хотин-компаниею. Шестов-братством, — и не пришли ни к чему.
— С этим обществом мы таких делов наделаем, что страсть! — воскликнул Хотин, внезапно воодушевляясь. — Мы им покажем, как жить по совести. Только бы удалось нам осуществить, а уж мы им нос утрем.
И он яростно погрозил кому-то кулаками.
Логин вдруг нахмурился; язвительная улыбка промелькнула на его губах.
"Ничего не выйдет", — подумал он, и тоскливо стало ему. Но вслух он сказал:
— Да, конечно, если приняться с толком, то должно осуществиться.
"Отец-такой же мечтатель, как и дочь, — думал он об Ермолиных. — Он верит в мой замысел больше, чем я сам, — поверил сразу, с двух слов. А я, после стольких дум, все-таки почти не верую в себя! А какой бодрый и славный Ермолин! Глаза горят совсем по-молодому, — позавидуешь невольно".
— Однако, — суетливо заговорил Коноплей, — я не стану тратить времени даром: сейчас же буду готовить книгу для типографии. Мне типография больше всего нужна. Это хорошо будет устроено. Вот я книгу написал. Напечатать-надо деньги. А своя типография, то даром, — выгода очевидная.
— Ну, не совсем даром, — сказал Логин, хмурясь и в то же время улыбаясь.
— Да, да, понимаю: бумага, краска типографская. Ну да это подробности, потом.
— У вас и так много работы, — сказал Шестов, — а вы еще находите время писать.
Он с большим уважением относился к тому, что Коноплев пишет.
— Что делать, надо писать, — с самодовольною скромностью отвечал Коноплев. — Никто другой не говорит в печати о том, что нужно, — приходится выступать нам.
— А не будет нескромностью полюбопытствовать, о чем ваша книга? — спросил Логин.
— Против Льва Толстого и атеизма вообще. Полнейшее опровержение, в пух и прах. Были и раньше, но не такие основательные. У меня все собрано. Сокрушу вдребезги, как Данилевский Дарвина. И против науки. — Против науки! — с ужасом воскликнул Шестов.
— Наука-ерунда, не надо ее в школах, — говорил Коноплев в азарте. — Все в ней ложь, даже арифметика врет. Сказано: отдай все, — и возвратится тебе сторицею. А арифметика чему учит? Отнять, так меньше останется! Чепуха! Против Евангелия. К черту ее!
— Со школами вместе? — спросил Ермолин.
— Школы не для арифметики!
— А для чего?
— Для добрых нравов.
— В воззрениях на науку, — сказал Логин, — вы идете гораздо дальше Толстого.
— Вашего Толстого послушать, так выходит, что до него все дураки были, ничего не понимали, а он всех научил, открыл истину. Он соблазняет слабых! Его повесить надо!
— Однако, вы его недолюбливаете.
— Книги его сжечь! На площади, — через палача!
— Ас читателями его что делать? — спросила Анна с веселою улыбкою.
— Кто его читает, всех кнутом, на торговой площади! Анна взглянула на Логина, словно перебросила ему Коноплева.
— Виноват, — сказал Логин, — а вы читали?
— Я? Я читал с целью, для опровержения. Я зрелый человек. Я сам все это прошел, атеистом был, нигилистом был, бунтовать собирался. А все-таки прозрел, — Бог просветил; послал тяжкую болезнь, — она заставила меня подумать и раскаяться.
— Просто вы это потому, что теперь мода такая, — сказал Шестов; он от слов Коноплева пришел в сильнейшее негодование.
Коноплев презрительно посмотрел на него.
— Мода? Скажите пожалуйста! — сердито сказал он.
Широкие губы его нервно подергивались.
— Ну да, — продолжал Шестов, волнуясь и краснея, — было прежде поветрие такое— вольное, и вы тянулись за всеми, а теперь другой ветер подул, так и вы…
— Нет, извините, я не тянулся, я искренно все это пережил.
— И Толстой-искренно.
— Толстой? На старости лет честной народ мутит.
— Ваша книга его и обличит окончательно, — сказала Анна примирительным тоном,
— Мало того! На кол его, и кнутом!
— Меры, вами предлагаемые, не современны, к сожалению, — сказал Шестов.
Он старался придать своим словам насмешливое выражение, но это ему не удалось: он весь раскраснелся, и голос его звенел и дрожал, — очень уж обидно ему было за Толстого, и он теперь от всей души ненавидел Коноплева.
— Не современны! — насмешливо протянул Коноплев. — То-то нынче все и ползет во все стороны, и семья, и все. Разврат один: разводы, амурные шашни! А по Домострою, так крепче было бы.
— Так, по Домострою, — сказал Ермолин, — то есть непокорную жену…
— Камшить плетью!
— Хорошо, кто с плетью, худо, кто под плетью, — сказал Логин, — всяк ищет хорошего для себя, а худое оставляет другим. Так и жена.
— Нет, совсем не так. Жена-сосуд скудельный, она слабее, и поэтому ее обязанность-повиноваться мужу.
— Вот вы говорите, что жена слабее, — сказала Анна. — А если случится так, что жена сильнее мужа?
— Не бывает! — решительно сказал Коноплев.
— Однако!
— Если телом и сильнее, так умом или характером уступит. Муж-глава семьи. Вот Дубицкий-примерный семьянин, он в повиновении держит…
— Изверг! — воскликнул Шестов.
— А взять хоть нашего городского голову, — да он прямой колпак. Я б его жену а бараний рог согнул.
— Это вам не удалось бы, — возразил Хотин, — посмеиваясь.
— Не беспокойтесь! Или еще исправничиха, — разве хорошо? Муж долги делает, а она наряжается. Не молоденькая, пора бы остепениться!
Глава десятая
Логин и Шестов с Митею втроем возвращались от Ермолиных. Они отказались от экипажа, который им предлагали, а Коноплев и Хотин предпочли ехать.
Митя устал за день. Ему хотелось спать. Иногда он встрепенется, пробежит по дороге и опять шагает лениво, понурив голову.
Тихо было на большой дороге. Уже солнце касалось мглистой полосы у горизонта. Откуда-то из-за дали доносились заунывные звуки песни, тягучие и манящие. По окраинам дороги, на высоких и пустых стеблях покачивались большие желтые цветы одуванчика. На лугу кой-где ярко желтели крупные калужницы. В перелеске коротко и скучно загоготал одинокий леший и смолк.
Шестов так бодро шагал по дороге, словно уже совершал некоторый подвиг. Логин с усмешкою слушал его восторженные восклицания. Вспомнилось, как при прощанье Анатолий крепко сжал его руку. Он смотрел тогда на Логика разгоревшимися глазами, и щеки его раскраснелись. Восторг мальчика понравился Логину и позабавил его.
"Игрушка, заманчивая для детей, незнакомых с жизнью, и для стариков, которые молоды до могилы"-так определил он теперь свой замысел.
— Какая превосходная идея! — восклицал Шестов. — Да, вот это именно и хорошо, что без всяких потрясений можно устроить разумную жизнь, — и так скоро!
— Разумную жизнь в Глупове! — тихо сказал Логин.
Помните, — продолжал Шестов, — "Через сто лет" Беллами. Когда я читал, я все думал, что это что-то далекое-, почти несбыточное. Ведь он через сто с лишком лет Рассчитывает. А через сто лет что еще будет нравиться людям У них свои идеалы, может быть, будут, получше наших. А это наше дело теперь же можно сделать! Сейчас же можно начать!
Сейчас, конечно, угрюмо сказал Логин, — вот придем домой и переменим свою жизнь.
Ну, не буквально сейчас… Да нет, именно сейчас, теперь же можно говорить, собирать сотрудников, разрабатывать устав. Ведь начальство разрешит!
Было бы для кого разрешать.
Шестов посмотрел на Логина внимательно, словно обдумывал-разрешат или нет, — и опять быстро и уверенно зашагал.
— Ведь тут нет ничего пред осу дительного или незаконного. Впрочем, как посмотрят. Вот мне один из товарищей писал, что в их городе клуба не разрешили: мало членов, и никого из местных заправил. Но мыто навербуем толпу участников.
— Едва ли десяток найдется.
— Почему же вы так думаете?
— Равнодушие-злейший враг всякого движения.
Шестов примолк ненадолго.
"Ах, если бы я сам был поменьше недоверчив к себе, думал Логин. — Этот мальчик своим энтузиазмом разогрел бы кого-нибудь… если бы не обстоятельства".
Настолько Логин был уже знаком с историею, которая занимала город, и с настроением некоторых влиятельных в городе лиц, чтобы предвидеть, что участие Шестова не принесет пользы для проведения замысла в жизнь. Скорее напротив: будут мешать за то, что' он участвует.
А все-таки поборемся, — решительно сказал Шестов.
Горделивое чувство поднялось в душе Логина, как перед битвою в душе воина, который не уверен в победе, он дорожит честью.
— Поборемся, — весело повторил он.
И вера в замысел, такая же сильная, как и неверие, встала в его душе, o и все же не могла затмить угрюмой недоверчивости.
"Восторг его хорош сам по себе, помимо возможных результатов, ^ думал он о Шестове, эстетичен этот восторг!"
Было, в самом деле, что-то прекрасное и трогательное в молодом энтузиасте. Дорога, где шли они, с серым избитым полотном и узкими канавами по краям, пыльно протянулась среди унылого ландшафта, утомительнооднообразного; она своим пустынным и жестким простором под блеклозеленым небом, всем своим скучающим видом странно и печально оттеняла незрелый восторг молодого учителя. Чахлые придорожные березки не слушали его восклицаний, вздрагивали пониклыми и порозовелыми на заре ветками и не пробуждались от вечного сна. Грубая дорожная пыль взлетала по ветру нежными клубами, сизыми, обманчивыми. Когда она подымалась у ног Логина, за нею мерещился ему кто-то злой и туманный.