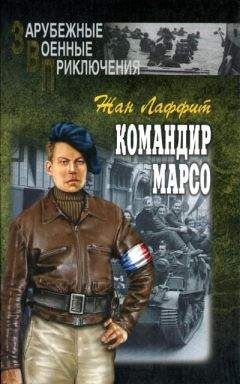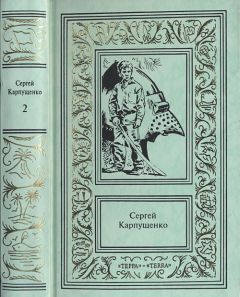Сергей Залыгин - Комиссия
Не на бревнышке, а рядом сидел Иван Иванович Саморуков и поглядывал на свою стариковскую команду. Кто-то расстарался, принес две табуретки — одну для гармониста, другую — для Ивана Ивановича, и вот он восседал, как бывало прежде, совсем еще в недавнем времени, когда никто в Лебяжке и помыслить не мог, будто Саморуков — не лучший человек, будто он — такой же старик, как и все другие.
Старцы убеждали друг друга, доказывали, что Лебяжка деревня особая мирская, дружная. Возьмется за общее дело, гору своротит, нету больше таких деревень вокруг, нету и нету!
Иван Иванович молчал, и старики умолкли тоже, должно быть, подумали, что Ивана Ивановича разговор обижает: какая же это дружная деревня, если не признает своего лучшего человека? Так они определили ход мыслей в пепельной голове Ивана Ивановича и замолкли, перевели разговор на Устинова.
Они знали, что Иван Иванович очень Устинова любит. Даже был случай, еще до войны, когда Иван Иванович повздорил со всеми с ними и в сердцах сказал: «Вот возьму и помру, никого из вас, дураков, перед смертью не назову! Назову как лучшего человека Николку Устинова!»
Что Иван Иванович обозвал всех стариков дураками — обиды не было. Иван Иванович, рассердившись, еще и не такие слова произносил, не глядя что происхождения был старообрядческого. Но что он превознес над ними Николу Устинова, мужика в ту пору даже и не сорокалетнего, это было обидой, и они посылали двух человек, по-теперешнему — делегацию, чтобы узнать: всерьез он это сказал или в сердцах?
Иван Иванович напоил делегацию чаем с вареньем, еще кое-чем, и она вернулась в веселом расположении, но так ничего и не узнала.
Теперь старики, с запозданием лет на десять, надумали уладить размолвку и хвалили Устинова. Тем более что в нынешнее время звание лучшего человека никому из них уже не маячило.
А Иван Иванович всё сидел на своей табуретке и всё молчал, а потом сказал вдруг:
— От ужо совсем в скором времени завяжется в нашей местности междоусобная война, от тогда и поглядим — какая такая дружба водится среди нас, лебяжинских? Нонче школу строють, а завтра, может, она будет синим огнем гореть?
— Ну, пошто уж обязательно и в нашем селении война завяжется? спросил кто-то из стариков Ивана Ивановича. — Нам, лебяжинским, она вовсе ни к чему!
— А куды она денется, та война, от нас, от Лебяжки? Некуды ей деться. Она и нас захватит. Беспременно.
— Бывает, Иван Иванович, что и вся деревня сгорит, а одна чья-то изба посередке останется целехонька!
— Бывает! — согласился Иван Иванович. — Но тольки не с тем жителем, который на такой счастливый исход заранее надеется. С тем не бывает!
— Ну, а приказ Сибирского правительства читан тобою, Иван Иванович? Читан, нет ли? Про умиротворение нонешних умов?
Приказ этот за № 24, за подписью Губернского Комиссара и уполномоченного Командира 1-го Средне-Сибирского Корпуса, висел, наклеенный на двери Лебяжинской сельской сходни, уже не первый день, и написано в нем было так:
«На основании ст. 9 Постановления Временного Сибирского правительства от 15 июля 1918 года ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возбуждение и натравливание одной части населения на другую.
2. Распространение о деятельности правительственного установления или должностного лица, войска или войсковой части ложных сведений, возбуждающих враждебное к ним отношение.
3. Распространение ложных, возбуждающих общественную тревогу слухов.
Виновные в нарушении сего приказа подвергаются аресту до 3-х месяцев или денежному взысканию до трех тысяч рублей».
Иван Иванович приказ, конечно, вспомнил, понюхал табачку и сказал:
— Кто из вас, господа старики, задает мне глупой вопрос? Об умиротворении умов? Я чтой-то не расслышал за табачком — кто же энто спрашивает?
Ему никто не ответил.
И опять Иван Иванович сидел и молчал, пожевывая губами, положив руки на колени и вздыхая, а все остальные старики на него молча глядели… Точь-в-точь так же, как, бывало, глядели они на него прежде в совете лучших людей, когда дело решалось очень трудное и никто не знал, как его решить, и ничего не оставалось, как только ждать слова Ивана Ивановича.
Лети, казак, лети стрело-о-о-ю,
Лети сквозь горы и леса
Моя любовь уже с тобо-о-ю,
И завсегда я жду-у тебя-а-а-а-а
пели между тем изо всех сил бабы — мужние, вдовые и совсем еще девки на выданье. Про любовь пели. И месили голыми ногами глину, и налаживали из тесины и чурбаков столы для общественного обеда, и уже варили в казанах баранину, подбрасывая в костры свежую щепу и ругаясь с мужиками, которые на тех же кострах обжигали столбы, прежде чем закопать их в землю. А щепы, сухой, пахучей, смоляными узорами разрисованной, было для костров нынче грудами — мужики тесали бревна безостановочно, один упарится изо всей силы тесать, рубить и пилить — уступает место другому, и так безостановочно гудели и ворочались бревна, образуясь в стропильные брусья, в обрешеточные бруски, в лежни, в пластины и в горбыли, укорачиваясь и наращиваясь, соединяясь «хвостом» и «лапой» в углы.
Член Комиссии Половинкин седьмым потом испотел, а топора никому не отдавал, смены себе не хотел, кантуя одно бревно за другим.
Ему говорили: «Половинкин! Ты вот-вот правда что надвое распадешься по обе стороны бревна! Уступи место свежему кантовщику!» А он даже и не отвечал на эти слова, не оглядывался, только взмахивал и взмахивал топором чуть повыше склоненной головы, отваливая от бревна крупные чешуи — сначала с одной, потом с другой стороны.
Старались мужики. Никто не лодырничал.
Кто прошлую субботу и воскресенье больше других сделал порубки в лесу, те нынче особенно старались: им очищение от греха выходило в этот час.
Старики слушали мужской перестук топоров, женские песни, сидели неподвижно, вспоминали, о чем-то думали. Кто-то из них сказал:
— Зинка-то, Панкратова-то — всё одно голосит шибче всех других. И высоко ведь берет — тоже повыше других… А помните ли, господа старики, кто еще живой из нас по сю пору остался, как мы ее, сопливую беженку, всё ж таки приговорили взять в обчество? Вместе с родителями. Ты помнишь, Иван Иванович?
Иван Иванович кивнул, что помнит…
— А чо энто Зинка-то вьется нонче вокруг Лесной Комиссии? Нету ли тут чего, господа старики? Нету ли тут чего, Иван Иванович? Чего-нибудь, а?
Иван Иванович снова молча слегка махнул рукой: ладно, не наше дело!
А Панкратова Зинаида действительно запивалась нынче птицей небесной и сильной. И всё одной и той же песней. Только кто-нибудь из баб затянет «А я, мальчик, на чужбине, позабыт от людей…», или «Как по зёлену долу росою девка красная к милому шла…», или «Помнишь ли, помнишь, моя дорогая…», в ту же минуту снова и снова она является: «Лети, казак…» И женские голоса раскалываются надвое, и те, которые следуют за казаком, те и берут верх, и озоруют над теми, кто постепенно умолкает, кто сходит на нет, и зовут и зовут к себе казака «скрозь горы и леса». И через что-то еще…
И не видать ее, Зинаиду Панкратову, среди множества других людей, где она там, то ли босая, заголенная, месит глину, то ли, раскрасневшись, варево готовит на костре, а вот слышно, так уж действительно слышно больше всех других!
Обед был на две смены. В ближайших и даже не очень близких избах подобраны были ложки, вилки, ножи и миски, вся соль, весь перец, так что многим хозяйкам уже на другой день предстояло побираться по деревне насчет щепотки соли и перчику, ну а сегодня об этом никто не задумывался, не до того было.
За длинным, кое-как слаженным из тесин и чурбаков столом уважены были Иван Иванович Саморуков и Николай Леонтьевич Устинов: их посадили рядышком с главного торца. Напротив, в другом конце, вторая пара: учителка и «коопмужик» Калашников.
Значит, получилось признание довоенных правил: самый лучший человек оказался не забыт, а Устинов с ним рядом как главный распорядитель строительства; Калашников — в прошлом председатель кооперации и нынешний глава Лесной Комиссии, учителка — так это же был ее день и ее праздник. Она молодость свою положила на порог невзрачной, всегда не дочиста вымытой лебяжинской школы, она, старая дева, положила туда и всю свою жизнь.
И если в нынешний день учительница могла сколько-нибудь восполнить убыток — ей надо было предоставить такую возможность, вот ей и предоставили — посадили рядом с Калашниковым со второго торца, тем более что в свое время она помогала ему в кооперации — вела переписку, учитывала кассу, покуда Калашников не научился вести дело сам. Глядя нынче на нее — на седенькую, под скобку стриженную, со стеклышками на детски-строгих глазках и возбужденную, в румянце, можно было подумать, что действительно нынешний день способен возместить ей полжизни. Может, и больше… Калашников захотел сделать учителке приятное, вынул из кармана кусочек газетки, схороненный на раскурку, и, прежде чем оторвать от него краешек, дал прочитать ей следующее объявление: