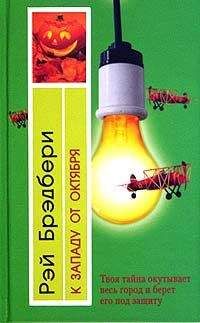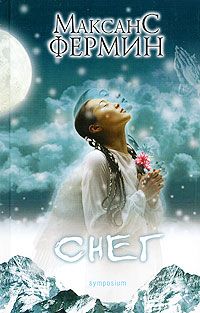Владимир Набоков - Полное собрание рассказов
— Послушайте, — сказал я, — я вам пошлю, отправлю, препровожу эту шляпу, когда разыщу ее, а если не найду, то пошлю чек.
— Но я уезжаю сегодня вечером, — сказал он ласково. — К тому же я бы желал получить небольшое разъяснение по поводу странного замечания, которое вы сделали моему дражайшему другу мадам Галль.
Он терпеливо ждал, пока я пытался сказать ему как можно разборчивей, что ей все разъяснят власти и полиция.
— Вы находитесь в заблуждении, — сказал он наконец. — Мадам Галль — известная общественная деятельница, у нее множество связей в правительственных сферах. Мы, слава Богу, живем в великой стране, где каждый может говорить, что ему вздумается, не опасаясь оскорбления за высказанное частное мнение.
Я велел ему уходить.
Когда затих последний залп моей захлебывающейся речи, он сказал:
— Я ухожу, но запомните, пожалуйста, что в этой стране… — И он с шутливой укоризной погрозил мне согнутым на немецкий манер пальцем.
Пока я решал, куда бы его ударить, он выскользнул. Меня била дрожь. Моя неловкость, порой забавляющая меня и даже чем-то неуловимо приятная, теперь казалась мне отвратительно низкой. Неожиданно мой взгляд упал на шляпу д-ра Туфеля, лежавшую на кипе старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его и, когда д-р Туфель показался четырьмя этажами ниже, швырнул шляпу в его направлении. Она описала параболу и блином шлепнулась посреди улицы. Там она сделала сальто, едва не угодив в лужу, и легла, так сказать, вниз головой. Д-р Туфель, не поднимая головы, помахал рукой, дескать, вижу, признателен, подхватил шляпу, проверил, не слишком ли она выпачкалась, надел ее и удалился, развязно повиливая ляжками. Мне всегда было любопытно, отчего это у худощавого немца всегда такой мясистый тыл, когда он в плаще.
Остается прибавить, что неделю спустя я получил письмо, своеобразный слог которого многое бы потерял в переводе:
«Милостивый Государь, — говорилось в нем, — всю мою жизнь Вы преследуете меня. Близкие друзья, прочитав Ваши книги, отвернулись от меня, думая, будто я и есть автор этих безнравственных, декадентских сочинений. В 1941-м, а потом еще раз в 1943-м, немцы арестовали меня во Франции по обвинению в том, чего я и знать не знал и ведать не ведал. И вот теперь в Америке, не довольствуясь тем, что Вы причинили мне столько неприятностей в других странах, Вы набрались наглости выдать себя за меня и в пьяном виде явиться в дом достопочтенной особы. Я этого так не оставлю. Я мог бы посадить Вас в тюрьму и ославить самозванцем, но, полагая, что Вам это придется не по вкусу, я согласен в виде возмещения за понесенное…»
Требуемая им сумма была весьма и весьма скромной.
Знаки и знамения
В четвертый раз за столько же лет им приходилось решать, что подарить на рождение неизлечимо душевнобольному молодому человеку. Никаких желаний у него не было. Произведения человеческих рук казались ему или ульями, гудевшими зловредной деятельностью, которую он один был способен распознать, или принадлежали к тем грубым удобствам жизни, в которых в его абстрактном мире не было никакой нужды. Перебрав и отбросив одну за другой несколько вещиц, которые могли бы его обидеть или испугать (к примеру, совершенно исключались любые технические новинки), его родители остановились на изящном, безобидном пустяке: корзинке с десятью разными сортами варенья в десяти баночках.
Ко времени его рождения они были уже давно женаты; теперь, спустя двадцать лет, они были уже довольно пожилой парой. Ее тусклые седые волосы были причесаны кое-как. Она носила дешевые черные платья. В отличие от других женщин ее возраста (например, г-жи Соль из соседней квартиры, лицо которой было лилово-розовым от румян, а шляпа напоминала охапку полевых цветов), она выставляла ничем не прикрытую белизну кожи на строгий досмотр весеннего освещения. Муж ее, когда-то довольно преуспевающий коммерсант, теперь полностью зависел от брата Исаака, настоящего американца с сорокалетним стажем. Они редко с ним виделись и между собой звали его «барином».
В ту пятницу все шло неладно. Подземный поезд лишился жизненного тока между двумя станциями, и в продолжение четверти часа слышен был только добросовестный стук собственного сердца да шорох разворачиваемых газет. Автобус, на который им нужно было потом пересесть, заставил себя ждать целую вечность; когда же он наконец пришел, то оказался набитым галдящими школьниками. По коричневой аллее, ведущей к санатории, они шли под проливным дождем. Там им снова пришлось ждать; и вместо их сына, который обыкновенно входил, шаркая, в комнату (его жалкое лицо всё в прыщах, угрюмое, смущенное, плохо выбритое), появилась наконец сестра, которую они знали и которая им не нравилась, и бойко объяснила, что он опять пытался покончить с собой. Теперь, по ее словам, это все позади, но их посещение могло его разстроить. В заведении так явно недоставало служащих и вещи так легко пропадали или попадали не к тому, кому предназначались, что они решили не оставлять подарка в конторе, а привезти его в следующий раз.
Она подождала пока муж раскроет зонтик, и потом взяла его под руку. Как всегда при огорчениях, он все прочищал горло особенным своим гулким кашлем. Они добрались до будки на автобусной остановке на другой стороне улицы, и он закрыл зонтик. В нескольких шагах от них, под раскачивающимся на ветру и стряхивающим капли деревом, безпомощно дергался в луже крохотный полумертвый птенец.
Они долго ехали к станции подземной дороги и за все это время не обменялись ни словом; и всякий раз, что она бросала взгляд на его старческие руки (набухшие вены, кожа в коричневых крапинках), сложенные и подрагивавшие на ручке зонтика, она чувствовала, как неодолимо наворачиваются слезы. Когда она огляделась, пытаясь как-нибудь отвлечься, она испытала род легкого потрясения — смесь сострадания и изумления, увидев, что одна из пассажирок, темноволосая девочка с неряшливыми карминовыми ногтями на ногах, рыдала на плече пожилой женщины. На кого эта женщина была похожа? Она была похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла за одного из Соловейчиков — в Минске, давным-давно.
Когда он в прошлый раз пытался это сделать, его метод, по словам доктора, был верхом изобретательности; он бы и достиг своего, когда б завистливый сосед по палате не подумал, что он учится летать, и не помешал ему. На самом же деле он хотел проделать дыру в своем мире и бежать.
Разновидность его умственного разстройства послужила предметом подробной статьи в научном журнале, но они с мужем еще раньше сами ее для себя определили. Герман Бринк назвал ее Mania Referentia, «соотносительная мания». В этих чрезвычайно редких случаях больной воображает, будто все происходящее вокруг него имеет скрытое отношение к его личности и существованию. Живых людей из этого заговора он исключает, ибо считает себя гораздо выше прочих в умственном отношении. Явления же природы следуют за ним пятам как тень. Облака на небе не спускают с него глаз и посредством замедленных знаков передают одно другому невероятно подробные о нем сведения. Его сокровеннейшие мысли обсуждаются по вечерам секретно жестикулирующими деревьями посредством ручной азбуки. Камешки, пятна, солнечные блики образуют узоры, составляющие каким-то страшным образом послания, которые он должен перехватить. Все на свете зашифровано, у всего на свете только о нем и речь. Иные из его соглядатаев, как, например, стеклянные поверхности и пруды стоячей воды, — просто холодные наблюдатели; другие, например пальто в витринах, — предубежденные свидетели, в душе сторонники расправы без суда и следствия; третьи же (проточная вода, грозы), истеричные до потери разсудка, имеют о нем превратное понятие и приписывают его поступкам нелепое значение. Он должен быть постоянно начеку и посвящать всякую минуту и всякую частицу жизни расшифровке флюктуаций предметов. Самый воздух, который он выдыхает, заносится в ведомость и подшивается к его делу. Когда бы только интерес к нему ограничивался его ближайшим окружением — но нет! При удалении потоки диких наговоров становятся громче и многословнее. Силуэты его кровяных шариков, увеличенные в миллионы раз, мелькают над просторами равнин; а еще дальше — огромные горы невыносимой плотности и высоты подводят в понятиях гранита и стонущих елей истинный смысл его бытия.
2Когда они выбрались из грохота и спертого подземного воздуха наружу, последние остатки дня уже смешивались с уличными огнями. Она хотела купить рыбы на ужин и потому передала ему корзинку с баночками варенья и сказала, чтобы он шел домой. Он поднялся до третьего этажа и тут только вспомнил, что еще утром отдал ей свои ключи.
Он молча сел на ступеньки и молча встал, когда минут через десять она пришла, с трудом подымаясь по лестнице, слабо улыбаясь, качая головой и коря себя за оплошность. Они вошли в свою двухкомнатную квартирку, и он тотчас же направился к зеркалу. Растянув углы рта большими пальцами, с ужасной маскоподобной гримасой, он вынул свою новую, безнадежно неудобную челюсть, разорвав длинные бивни слюны, тянувшиеся от нее. Пока она накрывала на стол, он читал свою русскую газету. Потом, продолжая читать, он ел бледную снедь, не требовавшую участия зубов. Она хорошо его знала и тоже молчала.