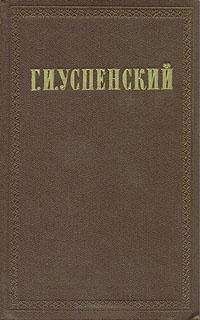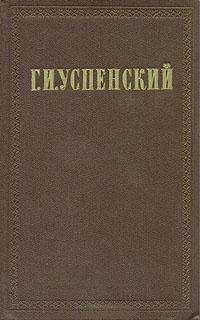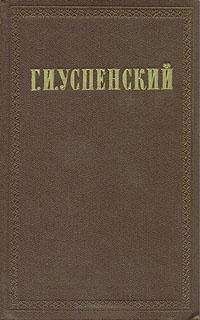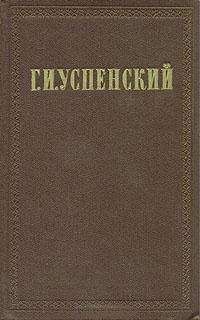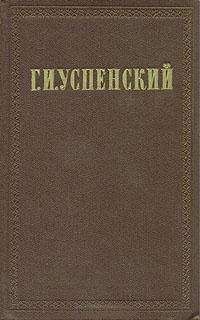Глеб Успенский - Том 4. Из деревенского дневника
Чем свет по деревне разнеслась недобрая весть: на рассвете крестьянка нашла своих, но в каком виде! Муж валялся на поле, верст за десять, и спал пьяный; в стороне от него паслась высвободившаяся из упряжки лошадь, а под телегой и под мешками с новой мукой лежал мертвый мальчик…
Как случилось это несчастие? Никто путем рассказать не мог. Разбуженный отец только с ужасом таращил глаза и меньше всех знал, что такое с ним случилось. Он помнил только, что вчера поехал на мельницу, что взял с собою шестилетнего сынишку (все человек: подержит лошадь, сумеет сказать «тпру» в то время, когда отец будет на мельнице). Помнит, как он радовался, таская мешки новой муки… Помнит, как подъехали дядя Егор да дядя Пахом; ехали они со станции и везли ведро хорошего вина. «Ай новина?» — спросил Егор. «Она самая!.. — Никак вино везешь?» — «Вино!» — «Дай стаканчик, я тебе новинки отсыплю». — «Что отсыпать, давай мешок-то — пей!» — «Так уж тогда давай всей компанией выпьем, новину обмоем…» Выпили по стаканчику, по другому, по третьему… «а тут и не помню». Не помнит также ничего и дядя Егор, и дядя Пахом тоже чуть-чуть что-то домекает… Помнится ему, бытто мальчишки и не было в телеге… «Ежели б было, авось бы заметили, не ввалились бы в телегу целой гурьбой песни петь…» — «Господи помилуй! уж неужто мы не видали его да навалились и задавили?..» — «Царица небесная!» — «Да не спал ли мальчик-от?» — «Спал, спал и есть!» — вспоминает отец. «Как же это, господи?» — «Вино-то дюже забрало!.. Вино хорошее, вино, надо сказать прямо, первый сорт!» — «Много ль ты его выпил-то?..» — «Да господь его знает… дядя Егор ни бутыли, ни муки не привез, да и то очутился вместе с телегой неведомо где…»
Идут толки, расспросы; но никто путем не знает, как случилось это несчастие. Кто и когда свалился из телеги, как, кто и где очутился? Раздавили ли мальчика люди или мешки и телега? Всякий помнит только стаканчики, а потом ничего и не помнит — потому вино дюже хорошо попалось. А мальчик лежит мертвый на лавке, и белым холстом покрыты его изуродованные члены!.. Вчера он еще бегал, играл в лошадки, в воров, то есть ловил вора, вел его в арестантскую, кричал: «отдай деньги!», а теперь вот — мертвый… Как? за что? Сразу, бог знает за что, бог знает почему, свалилась на людей беда, истинная деревенская беда, которая бьет, как гром, никому ничего не объясняя. И пришиблен человек, да как пришиблен! Разбита, как дерево молнией, мать, ошеломлен и в глубине своей совести заклеймен ощущением ужасного преступления отец, простой, серый, работящий мужик. Есть ли какая-нибудь возможность распутаться, разобрать что-нибудь в этом глубоком несчастии всему этому несчастному народу?.. Облегчит ли кто-нибудь эту бесконечную боль матери, непостигаемый ужас отца? «Вино дюже крепко!» — может только сообразить этот несчастный человек во всей массе нахлынувшего на него горя.
Целый день надо всей деревней, не говоря о семье маленького покойного, висело ощущение неразгаданного несчастия, которое всякому говорило, что есть над всеми что-то беспощадное, что может грянуть на нас неведомо когда и разнести вдребезги.
Наконец пронеслась весть: «Становой!»
И всем стало легче… Хоть кто-нибудь покончит с этим тяжелым недоумением. Так, сам по себе, только будешь думать и мучиться, мучиться и думать и все-таки ничего, ровно ничего не придумаешь. Становой взял лист бумаги и написал протокол, в котором была смерть от задавления телегой. Понятые подписались и разошлись по домам. Дело конченное. Далее мыслей начальства не приходится распускать темные мысли мужицкие — не к чему…
Мальчишку зарыли; и вот из деревенской девушки, из деревенской молодухи образовалась деревенская женщина с разбитой грудью, с угнетенным выражением лица и с сознанием, что нет на свете ничего, кроме муки мученской… А из парня и работящего отца вышел мужик, молчаливый в поле, молчаливый дома, снимающий молча шапку перед каждым тарантасом и издали сворачивающий с дороги в грязь, в лужу от всякого встречного: всякий встречный лучше его, всякий имеет право идти по дороге, тогда как он серый мужик — «суконное рыло»!
7При всеобщей заботе о податях крестьяне невольно должны обращать особенное внимание на всякое явление, в глубине которого скрываются деньги. Ввиду этого слепинские жители с особенным интересом ожидали приезда врача воспитательного дома, чтобы разузнать, когда им будут выданы свидетельства на получение десяти рублей за последнюю треть года. Свидетельства за предшествующую треть года были заложены давным-давно и забраны — у кого в лавке мукой, солью; у кого, с уступкой конечно, отданы ростовщикам. Эти новые свидетельства, деньги по которым получают в конце трети, ожидаемы были также для немедленного залога в лавку или ростовщикам…
В первых числах сентября неожиданно приехал доктор и остановился у меня, так как в нанимаемом мною доме — он узнал от лавочника — есть большая, удобная комната. Никогда, или по крайней мере очень, очень много лет, не видал я такого олицетворения русского чиновнического типа. Поставленный в необходимость исполнять неисполнимое (возможно ли что-нибудь сделать одному человеку, с аптечкой в полторы квадратных четверти, для нескольких сот детей, разбросанных на громадном пространстве целого уезда), этот человек, как и всякий русский чиновник, не имеющий силы оторваться от жалованья, создал из своего дела нечто поистине национальное, то есть дела он не делал, потому что не мог, но беспрерывно мучился (или показывал вид, что мучается) и мучил окружающих, подвластных ему людей, запутывал себя и других в какой-то паутине всяких вздоров, запутывая до помрачения ума и сам уставая при этом до того, что у него «пересыхало горло», и до обычной фразы в конце концов:
— Вот наша собачья жизнь! Если бы не семейство, — и т. д…
Битых два часа этот «служащий» человек орал на собравшихся по его призыву баб с ребятами, не сказав им ни единого слова дела, потому что такие слова не привели бы ровно ни к чему.
— Да ты говори путем! — часто слышалась бабья речь во время его монологов.
— Я вам двадцать тысяч раз говорил… довольно с меня!.. У меня и так голова поседела от вашего безобразия!.. Свиньи вы! — вот я вам что скажу раз навсегда. Если бы вы как следует исполняли то, что вам приказывают, тогда дело было бы другое…
— Кажись, мы стараемся…
— «Кажись»!.. Вам все, дуракам, «кажись»!.. А вот как напишу ревизору, тогда и узнаешь кузькину мать. «Кажись»!.. Ты что?
— Третий месяц пошел…
— Кто ты такая?
— Аксинья…
— Какая Аксинья?
— Маркова!.. — заговорили несколько голосов.
— Что ж тебе нужно?
— Билетик бы…
— Какой билетик? За что? Откуда?.. Что она такое говорит?
Баба молчит.
— Что у ней, язык, что ль, отнялся?
— Она от Марьи ребенка приняла… Третий месяц держит задаром, просит билет на осень…
— Как она смела взять без позволения?
— Там прописано в билете…
— В каком билете?
— А в Марьином.
— Что это значит — «в Марьином»? Что такое прописано? Тебе пропишут порку, а ты пойдешь ко мне? Вам будут там прописывать, а я тут с вами толкуй? Нет уж, покорно благодарю!.. Довольно с меня и того…
И так далее, все в том же роде.
Этому человеку необходимо было терзаться самому и терзать других по целым часам, прежде нежели он отливал в пузырьки баб несколько капель ревеню или прежде нежели объявлял какой-нибудь Аксинье, что она не получит за три месяца ни копейки, так как в билете именно это и прописано и ничего другого там нет и не было. Пробушевав несколько часов, намучившись и намучив других, нажаловавшись на начальство, на свою каторжную жизнь, похвалившись своими благодеяниями, своими хлопотами, врач, наконец, уплелся в соседнюю деревню, оставив баб в недоумении. Точно кто-то взял каждую за шиворот, ни с того ни с другого наорал, растрепал, оглушил и выпихнул невесть куда.
* * *По отъезде доктора между бабами произошел (когда они очнулись) разговор, давший мне возможность внести в мой дневник несколько слов, касающихся деревенской педагогии.
Бабы кучей стояли под моим окном и некоторое время были в полном оцепенении.
Наконец Аксинья Маркова очнулась и произнесла:
— Тоже билеты дают… а кто их там разберет, прости господи…
— Ты бы писарю дала прочитать-то?..
— Да читали уж… Хоть читай, хоть нет, ишь он… ровно цепная собака!
— То-то читали. Кто читал-то?
— Да Федюшка Корзухин читал…
— Нашла кому!.. Что мальчишка знает?
— Ведь небось учут их. Шут их знает, чему их там учут-то…
— На-ашла!.. Вот тебе и начитал на шею…
— Да что мне? Пойду да швырну его (ребенка) Марье, пущай берет назад, а мне отдаст за три месяца… Шут с ей!
— И то-о!.. Бог с ним совсем… Что она? Нешто так делают? Кабы свой бы…