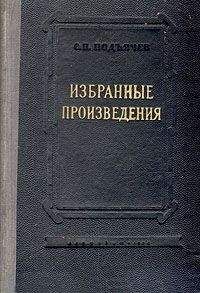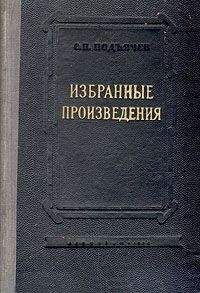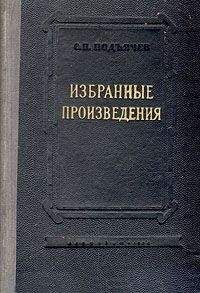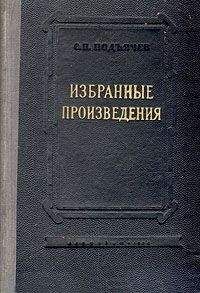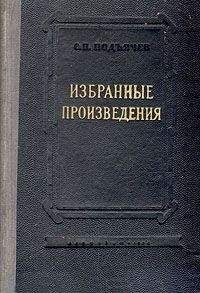Семен Подъячев - Забытые
— Та-а-ак, — протянул торфяник и, помолчав, улыбнулся. — Ты говоришь, вон, черносотенцы… значит, это те, которые против, чтобы нашему брату хорошо было… та-а-ак! А ведь я, братец ты мой, допреж не знал этого… Я так полагал: черносотенцы — мы, провославные хресьяне… чернядь, тоись… Спасибо, один вот, неплошь тебя, человечек вразумил…
Чортик засмеялся и, обернувшись к Сысой Петрову, сказал:
— Ну что там, читай…
— Да что читать-то?.. Все, небось, одно… «Произошел крупный инцидент, почти скандал, еще более обостривший и без того натянутые отношения думских партий».
— Полаялись, значит, опять! — сказал Чортик.
— А больше-то им и делать нечего! — обрадовавшись случаю, подхватил Иван Захарыч.
Теперь он уже окончательно отошел, берет «своей рукой» чайник и пьет не из стакана, а прямо из носка…
Сысой Петров хмурится, но молчит… Чортик смеется и говорит:
— Пошла душа в рай!.. «Шире дорогу, Любим Торцов идет!» Опять, значит, по-вчерашнему… Смотри, Елисей, Хима изукрасит… Как домой-то пойдешь?
— Как, как? — сердится вдруг Иван Захарыч и таращит на него пьяные глаза. — Как?.. Ногами!.. Вот как!..
— Будешь орать, и здесь еще попадет…
— Этто от кого жа?!
— А вот от Коныча.
— А эттого не желает, а-а-а?.. Нет, погоди! Не имеешь права коснуться… Кто я, а?.. Гражданин!.. Что в милостивом манифесте сказано было… забыл?.. Неприкосновение к личности, вот что… Дык какую же он имеет возможность коснуться меня, а?..
— Я ж тебе, чудак-баран, сейчас только читал на счет прикосновения-то… Наставят банок, вот тебе и неприкосновение к личности.
— Не имеет пра-а-ва!
— Ну да!
— Брось… не дразни его, — говорит Сысой Петров.
— Меня дразнить нечего-с, — вскочив вдруг с места и начиная левой рукой колотить себя в грудь, кричит, привлекая на себя общее внимание, Иван Захарыч. — Я не собака-с… будет… полаяли-с… Можно сказать, с самого с того момента, как из материнской, царство небесное, утробы-с свет узрел, только и помню: лаяли да били, били да лаяли… Тятька, покойник, бывало, бил… Братец Никанор Захарыч в ученье отдали — били… Когда же конец-то, господи, владыко живота моего!.. Доколе же? Женили вот, в дом взошел… Соплюон, бог с ним, не тем будь помянут, устроил… дети пошли… Дума вот… Думал, авось, мол, отдышка, просвет… Ан вот тебе, заместо отдышки-то, крышка!..
Что же этто такоича значит! — завопил он еще пуще, тараща помутившиеся глаза на торфяника и не переставая бить себя в грудь. — Про тебя вот, про сукина сына, про серого чорта, в каждом номере печатают, а про меня ничего, позабыли!.. Хуже я тебя, что ли, а?.. Хуже?.. Ты оброк платишь, а я нет, а?.. А я нет?..
— А это ты уж у них спроси, — сказал торфяник. — У них… Им, стало быть, виднее!..
Слова эти, сказанные с убийственным равнодушием, переполнили чашу. Иван Захарыч побагровел и заорал, ударяя кулаком по етолу, на весь трактир:
— Они… Га-а-а… они!.. Да их вместе с тем, кто им потачку-то дает, их надо…
Но договорить ему не пришлось. Подбежал Коныч и, с перекосившимся от злобы лицом, своей длинной, как у гориллы, рукой, твердым, как чугунная гирька, кулаком, ударил, ни слова не говоря, Ивана Захарыча «в рыло».,
— Ло-о-вко! — воскликнул торфяник и крякнул от удовольствия…
Иван Захарыч как-то чудно, точно поросенок, хрюкнул и упал на пол, ударившись затылком о скамейку.
Коныч, ругаясь, схватил его за воротник, поднял, встряхнул, как какой-нибудь пустой куль, ударил еще раз сзади по уху и, подтащив к порогу, ткнул в дверь, отчего последняя, завизжав блоком, распахнулась настежь. Тут Коныч ударил Ивана Захарыча еще раз на прощанье по шее и, со словами: «Вот тебе, сво-о-о-лота!» — спихнул с крыльца…
Иван Захарыч, растопыря руки, как птица крылья, слетел со ступенек вниз и, уткнувшись лицом в грязь, распростерся на мостовой, похожий на бабу, лежащую на родной могиле и громко голосящую…
Неподалеку, шагов за тридцать от места происшествия по ту сторону улицы, под навесом спасался от непогоды городовой Пеунов.
Коныч крикнул его, и когда городовой торопливо, не разбирая грязи, подбежал, — сказал, указывая на Ивана Захарыча:
— Распорядись, Климыч… сделай милость, убери эту падаль, утиши… Надоел, сукин сын, пуще чорта!.. Ужо зайдешь…
Иван Захарыч, мыча что-то, встал сначала, как медведь на четвереньки, постоял немного в такой позе, с трудом поднялся на ноги и, тыкаясь то вперед, то назад, прохрипел, размазывая ладонью на лице кровь, смешанную с грязью:
— Не-е имеешь права! Не-е-не-прикосновения к личности… Я… я…
— Иди, иди к чорту! — крикнул Пеунов, поддерживая одной рукой Ивана Захарыча за рукав, а другой ударяя его по шее. — Не разговаривай, а то… Иди домой, паршивый чорт, пока цел…
— Н-н-н-е имеешь права.
— Иди, говорят, а то всю голову до мозгов прошибу!..
— Не-е-е-прикосновение к личности… Не-е имеешь…
— А-а-а, сволочь! Вот тебе неприкосновение! Вот тебе другое!.. Всякий чорт разговаривает тоже!..
Было совсем уже темно, когда избитый, весь в грязи, без картуза, доплелся каким-то непостижимым образом Иван Захарыч до дому. Увидя его, Хима всплеснула руками и ахнула:
— Господи Иисусе!.. Кто это тебя разукрасил-то?..
— Ос-л-а-а-абанили, — бормотал Иван Захарыч, стоя перед ней. — Ду-у-у-май…
Хима заплакала.
— Сколько раз говорила я, — закричала она, — сколько твердила: брось ты Думу эту… наживешь беды… вышло вот по-моему… казнись! Так и надо, так тебе, чорту, и надо… А картуз-то где ж у тебя? Потерял?.. Батюшки, неужели потерял? Ах ты, сволочь ты эдакая, бродяга! Ведь он, на худой конец, два четвертака стоит…
— Ос-с-ла-а-банили, — бормотал перед ней Иван Заха-рыч. — Ду-у-у-ма… Не-н-еприкосновение… к… к…
— А, чо-о-о-рт!.. Вот тебе! Вот! Вот! Вот! На… кха… тьфу!
Проснулся на другой день поутру Иван Захарыч поздно. Химы в комнате не было. Гришутка возился около печки, раздувая сапогом самовар…
Страшная боль в голове, в лице, по всему телу сразу напомнила Ивану Захарычу то, что было. Левый глаз у него затек и не открывался. По всему лицу запеклась кровь. Два передних зуба были выбиты, и во рту тоже все запеклось и засохло.
— Гриш, а, Гриш! — тихонько произнес он, подзывая сына. — Дай попить… Мать где?..
— Вышла… должно, корову доить…
Гришутка присел на корточки и глядел, как Иван Захарыч, немного приподнявшись на локоть, с опухшим и страшным лицом, жадно и долго глотал из ковшика воду.
— Что глядишь? — спросил Иван Захарыч, кончив пить. — А?.. Гриш…
Он потянул мальчика за рукав рубашки к себе.
— Что глядишь!.. Хорош тятя-то, а?
Гришутка обхватил его за шею руками и припал к нему.
— Тятя… тятя… милый тятя… не пей ты больше вина… не пей ты больше вина…..
Иван Захарыч молча обнял его и вдруг как-то странно, точно щенок, затявкал, громко и жалобно заплакав.
ПРИМЕЧАНИЯ
«Забытые». Повесть впервые напечатана в «Русском богатстве» (1909 г., кн. 6 и 7).
Подъячев рассказывает: «Помню по поводу написанной мною повести „Забытые“ (между прочим, одна из любимейших моих вещей) вышло недоразумение с редакцией журнала „Русское богатство“, куда она была послана. В редакции нашли, что повесть и герой ее Захар Даёнкин напоминают Уклейкина из рассказа Ивана Шмелева, чем редакция была удивлена и написала мне об этом. Письмо прислал Якубович-Мельшин. Я ответил, что тоже, со своей стороны, удивлен таким случайным сходством, ибо рассказа Шмелева не читал. Тем дело и кончилось. А что за рассказ такой Шмелева, я и по сие время не знак» («Моя жизнь», кн. 2, стр. 75).
Редакция имела в виду рассказ Шмелева «Гражданин Уклейкин».
Между повестями Подъячева и Шмелева имеется принципиальное различие, не замеченное редакцией «Русского богатства».
По справедливому замечанию исследователя история русской литературы XX века Б. В. Михайловского, «недовольство Уклейкина, как и его порывы к чему-то лучшему, очень смутны». Отчаявшийся герой Шмелева кончает самоубийством. «Разоблачая, — говорит Михайловский, — иллюзорность надежд на обновление сверху, Шмелев вместе с тем не видит действительных источников обновления жизни и оканчивает повествование пессимистической нотой». Не то Подъячев и его герой Даёнкин. Стремления последнего более определенны, он «остро ненавидит эксплуататоров», приходит к выводу о необходимости решительных революционных методов действия, он «тянется к социал-демократам» (См. Б. В. Mихайловский. Русская литература XX века, М., 1939 г., стр. 188–189, 208).